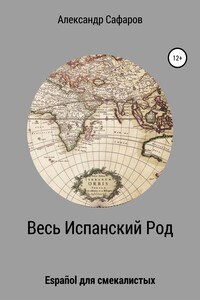Интеллигенция в поисках идентичности. Достоевский – Толстой | страница 62
В то же время Достоевский не мог оставаться в рамках мечтательного примирения, так как с самых первых своих работ разделил общество на ограниченных беспочвенных страдальцев и тотальных жертв – народа. Он изыскивал самые изощренные обвинения в адрес интеллигенции, ассоциируя ее с Западом, придавая свой критике черты антисемитизма и ксенофобии. Следуя не его декларациям, а его бинарной логике, никакой общности идей у народа и интеллигенции вовсе нет и быть не может; ибо общечеловеческий идеал «умственного пролетариата» – интеллигенции – это лакейское заигрывание с Западом и ресентиментные попытки превратить Россию в западную цивилизацию, подчинить «мамоне» и «Богу торговли».
Об общности интеллигенции и народа он размышляет абстрактно, мечтая (в неопределенном времени) о «рождении» молодого поколения интеллигенции, способного преодолеть все ошибки своего случайного семейства (дедов и отцов), поднять народ за собой, «слиться» с ним на практике, перестав быть «международным межеумком». Да и общечеловеческое он понимал как доминанту славянского – русского над Западом, который «добровольно должен» следовать после странно очерченной всемирной уступчивости за Россией-миссионеркой. Народ – единственный хранитель русской идеи, которую, однако, ему никак не удавалось репрезентировать в форме общечеловеческих идеалов. Писатель прямо указывает, что другие народы не способны понять наш идеализм и наше самопожертвование, а значит, не способны его принять, оценить и добровольно подчиниться славянской идее.
Нам остается их только «заставить выбирать лучшее» или тихо страдать от их неблагодарности.
Страстный идеализм Достоевского, миф о русской идее, на практике стал основанием идеи международной экспансии; спорные и щекотливые идеи о нашей национальной уникальности стали бесспорными фактами нашей последующей социалистической истории. «Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной» (Достоевский, 25, 17). Этот тезис может быть начертан на скрижалях любой тоталитарной идеологии.
Между славянофилами (в том числе и почвенниками) и западниками – нигилистами наблюдалась «идеологическая» симметрия: и те, и другие с одинаковой силой страсти и в силу схожих мотивов включились в активный процесс мифотворчества: Достоевский – в литературно-публицистический, нигилисты – в революционно-идеологический. В общественном сознании стали доминировать и столкнулись два новых воззрения: представление о святости русской идеи – русского народа и представление о страстности русской интеллигенции, одинаково опоэтизированные и облеченные в форму мифа