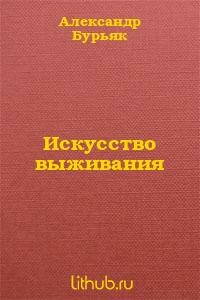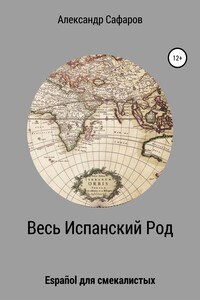Интеллигенция в поисках идентичности. Достоевский – Толстой | страница 61
В главе «Примирительная мечта вне науки» в самом названии симптоматично указывается на страстный и романтический контекст рассуждений мыслителя, ставшего ярым пропагандистом национальной идеи. Народ, с его точки зрения, и чувствует, и верит в свое религиозное – миссионерское предназначенье, в святость своих идеалов, в силу жертвенной любви: «такая вера есть залог самой высшей жизни наций, и только ею они и принесут ту пользу человечеству, которую предназначено им принести» (Достоевский, 25, 19). Но ведь об этом же мечтала и наша интеллигенция, определяя эту же – миссионерскую – веру иными словами. Вера интеллигентов также свята и, по сути, тождественна народной. Они верят в преодоление национального эгоизма, в разумное и духовное устройство жизни наций. Отсюда следовал радужный вывод писателя: вера объединяет всех русских людей – и народ, и интеллигенцию. И дело не в том, кто как верит, а в том, что все верят «одной окончательной общей мысли общечеловеческого единения…, этого чувства нет ни в одном народе. Но если так, то вот и у нас, стало быть, у нас у всех, есть твердая и определенная национальная идея; именно национальная…. Все спасение наше лишь в том, чтобы не спорить заранее о том, как осуществится эта идея и в какой форме, в вашей или в нашей, а в том, чтоб из кабинета всем вместе перейти прямо к делу» (Достоевский, 25, 20). К какому «делу» призывал «прямо перейти» писатель остается только догадываться.
Провозглашение подобных идей в качестве идеальных мировоззренческих конструкций русской жизни было не просто утопией, но страстным желанием (волей) превратить примирительную утопию в реальность, стремление охватить мифом все идеологическое пространство страны, сделать миф о всемирной отзывчивости реальностью. Фактически под «религиозное самопожертвование» подпали и подвиги русских солдат в войне с турками, и идейное самопожертвование народовольцев (шестидесятников), и разрушительное самопожертвование (самоубийства и терроризм) героев семидесятых годов. Идейность и беспочвенность «совпали» в одном и том же писательском мифообразе «святого», подвижника, аскета – абстрактного русского народа.
Писатель своим идеям дал точное название: «примирительная мечта», тем самым указав на ее фантастичность, спорность и желательность. Однако его увлеченность и идейная страстность и одновременно призыв «к практическому делу» стали во многом реальной причиной превращения мечты в страстные убеждения / поступки для следующих поколений, превративших «русскую идею» в абсолютную истину и стремившихся к реализации мечты в революционной практике. Как известно, в походе на мировой капитал, в борьбе за коммунизм объединились самые разные слои русского общества: рабочие, солдаты, крестьяне, творческие и радикальные интеллигенты.