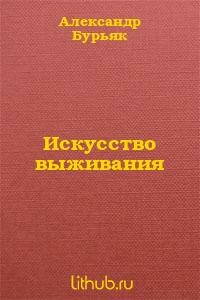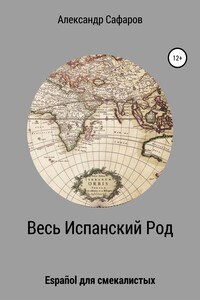Интеллигенция в поисках идентичности. Достоевский – Толстой | страница 60
Святость как субстанциональное содержание русской идеи была описана им через экспликацию семантических признаков православного идеала: жалость, сострадание, безволие как самопожертвование, милосердная любовь к людям в формах идеализированного отношения к семье, женщине, народу, святым и подвижникам земли русской. Святость – это центральное понятие, на котором строится вся архитектоника писательского мифотворчества. Она основана на защите и утверждении идеала православия. «В судьбах настоящих и в судьбах будущих православного христианства – в том заключена вся идея народа русского, в том его служение Христу и жажда подвига за Христа. Жажда эта истинная, великая и непереставаемая в народе нашем с древнейших времен, непрестанная, может быть, никогда, – и это чрезвычайно важный факт в характеристике народа нашего и государства нашего» (Достоевский, 24, 61).
Христианство в его православном варианте, с точки зрения Достоевского, есть основа жизнестойкости и дальнейшего процветания славянских народов, которые опираются на веру русского народа как на свое спасение и духовную первооснову своей жизни. Русская идея как святость – утопия и предметное основание национально-мифологического мышления писателя. Об утопизме этой идеи писал он в своих записных книжках: «…любить всех, установить царство мира и славы Божия, на основании народных православных начал. – Да ведь этого нет, – крикнут мне, – это утопия. – Давайте стараться, сомкнётесь, пойдемте вместе, давайте руки, положим головы» (Достоевский, 24, 195).
Мифологические установки писателя наиболее ярко представлены в его идее о сознательном отношении русского народа к пониманию миссионерской функции России, призванной своим служением Христу «оберегать от неверных все вселенское православие» (Достоевский, 24,62).
Таким образом, для Достоевского святость – это сверхмерное бытие нации – носителя высшей идеи, которая, по его мнению, заключается в религиозно-духовном соединении всех славянских и православных народов во Христе и в христовом братстве.
Русский народ после «Дневника писателя» становится главной фигурой философско-религиозных воззрений русских мыслителей рубежа веков. «Я не могу иначе говорить о русском народе. Я знаю, что этот безобразный народ – безмерно прекрасен» (Достоевский, 22, 153). Оппозиционный код, внедренный Достоевским в описание, станет способом бинарного восприятия народа, как в националистической, так и в революционной среде, вплоть до событий 1917 года. Антиномизм Н.А. Бердяева в описании русского народа – целиком взят из Достоевского