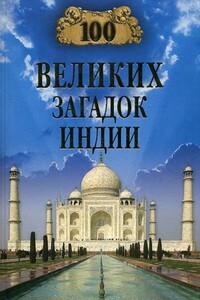Интеллигенция в поисках идентичности. Достоевский – Толстой | страница 33
Таким образом, диалогическое пространство частного или интимного мира раскрывает «следы тех глубоких борозд, по которым узнается невидимая и напряженная работа головы»[67], души и сердца. Затем сформированная мысль попадает в журналы, начинает идеологически перерабатываться критикой, становится доминирующей тенденциозной идеей, которая захватывает не только умы читающей разночинной молодежи, но даже, как отметил Н.В. Гоголь, попадает в «головы многих высокопоставленных чиновников»[68].
Происходит странная метаморфоза рождения мысли и ее публичного «воплощения», причем, без всякого тютчевского «сочувствия». Все волнения, противоречия, интимность и искренние переживания автора вдруг по законам инверсии оказываются «идеями-камнями» (выражение Достоевского), сцементированными общественным мнением и партийными требованиями журналов и коллег, став монологическими «идеями-идеологиями», которые объединяли или отделяли, единомышленников или друзей, превращая в бескомпромиссных оппонентов и врагов. Следующие мемуары А.И. Герцена заслуживают внимания: «Молодые философы наши испортили себе не одни только фразы, но и пониманье; отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное, это было то ученое пониманье простых вещей, над которым так гениально смеялся Гете в своем разговоре Мефистофеля со студентом. Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью. Во всем том была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно»[69].
Те же, кто не попадал под шаблоны или был чрезмерно самобытен, нещадно перерабатывался критикой, в одночасье теряя свою уникальность и право быть иным, не схожим с большинством партийцев. Достаточно вспомнить отношения между молодым Достоевским и литературными критиками «Современника» во главе с В.Г. Белинским, которые сначала возвысили его до небес, а потом «раздавили», умалив до «ку-мирчика» и «нового прыща на носу литературы»[70]. То же самое пытались проделать с Н.В. Гоголем, когда он использовал свое право на искренность в «Выбранных местах из переписки с друзьями». В.Г. Белинский, который «назначил» его основателем и лидером натуральной школы, затем занялся его «разоблачением», превратив в сумасшедшего («или вы больны – и вам надо спешить принять лекарство, или… я боюсь, чтобы положить мои мысли в слова!)»