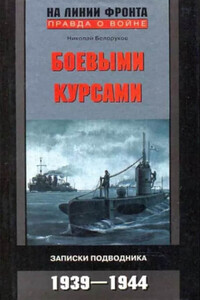Бегство. Документальный роман | страница 11
– Ну и как дела сегодня у наших львов? – спрашивает мама. Теперь я могу вскарабкаться им на спину – одному мне не разрешается.
Мама прислоняется к белой облупленной колонне, развязывает косынку и распускает позолоченные солнцем волосы. В этот ранний час на музейном крыльце больше ни души. Мама целует меня, шепчет что-то ласковое, и львы мурлычут от удовольствия, словно котята, кивая каждому ее слову.
В детстве мама была для меня идеалом радостной красоты. Как я обожал ее смеющиеся глаза, ее прически, одежду, походку, ее духи. Она привила мне зачатки вкуса. Мама стала самым первым источником моих представлений обо всем том, что именовалось «западной культурой». Именно она приобщила меня не только к западным литературе и искусству, но и к тому, что в брежневские годы считалось «западным» образом жизни. Мама рассказывала мне об улицах и достопримечательностях Лондона (куда ее, еврейку, наотрез не пускали на стажировку), о соборе Св. Павла или Трафальгарской площади, – рассказывала так, будто прожила в Лондоне всю жизнь. Мое детство прошло под знаком маминых рассказов о «Западе». О Нью-Йорке и Сан-Франциско. О Голливуде. О Фрэнке Синатре и Элле Фитцджеральд. Она рассказывала мне обо всем – о моде, о музыке, о танцах. Мама преподавала по утрам и ко второй половине дня обычно бывала дома. Помню, как-то раз зимой, в третьем или четвертом классе, я пришел домой из школы, мама поставила пластинку и мы пустились в пляс. Танцевали мы под одну из драгоценных американских пластинок с рок-н-роллом. Вторя маминым движениям, я крутился посреди комнаты под звуки “The Night Chicago Died” – на конверте пластинки длинноволосые рок-музыканты c гвоздиками в лацканах пиджаков и с автоматами в руках.
Лето 1969 года стало нашим последним дачным летом. Свой дачи у нас никогда не было. Папа с мамой не стремились обзавестись своим собственным клочком земли, лачугой с проржавелой рифленой крышей, кустами крыжовника. Их меньше всего привлекал летний отпуск в дачном поселке, разбитом на одинаковые участки в «шесть соток» с пыльными коттеджиками и огородиками. После кончины моего ленинградского деда Петра (Пейсаха) Шраера его просторный, еще дореволюционной постройки, дачный дом в Белоострове, где я провел почти все лето 1968-го, отошел к его третьей жене, и больше мы туда не ездили. Отцу в наследство досталась половина мышино-серенького 403-го «москвича» и фамильные золотые швейцарские часы. А также ироническое отношение к истории и любовь к живописи.