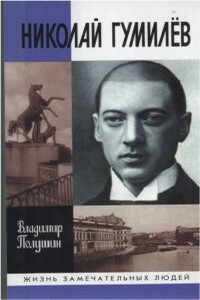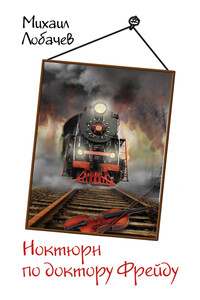Homo ludens | страница 61
• Строчка – как сухие оружейные щелчки;
• Девятибалльный шторм радости;
• Головокружительная карусель счастья;
• Аплодисменты срываются, как шумные птицы с карнизов;
• Есть поэты, которые держатся, раскланиваются, будто сегодня у них круглая дата;
• Юмор, шутка, анекдот у большого писателя – как маленький парашютик, вытягивающий большой –
важную мысль;
• Человек, умирая, переходит границу жизни и смерти. Но Светлову выпал страшный удел: долго жить на самой этой границе. Как камень, сорвавшийся с крыши, который не падает, а непонятно как, вопреки всему парит в воздухе;
• Инстинкт единственного слова;
• Синоним – это «и. о.» настоящего слова;
• Обетованная статья;
• Бескорыстие чистого листа;
• У иного такого пишущего даже не скоропись, а борзопись, резвопись, лихопись;
• Этакий коновал, воображающий себя нейрохирургом;
• Петр женился на Марии, а она, в свою очередь, вышла за него замуж;
• В этом стихотворении поэт говорит о том, что он помнит чудное мгновенье, когда перед ним явилась она;
• Поэт говорит, что недаром вздрогнул;
• Автор выражает готовность волком выгрызть бюрократизм;
• Поэт идет по миру, как пó миру (о Цветаевой).
Да, пишущий о поэзии вторичен по отношению к поэту. Правда, если он не Чуковский, не Эйхенбаум, не Якобсон, не Эткинд, не Паперный.
В конце 1960-х З. С. написал большую статью «Дом и мир» – о русской поэзии ХХ века. По тонкости понимания и проникновения в поэтический текст, по изысканности и красоте – это произведение искусства. Пересказать его «своими словами», как и хорошие стихи, нельзя. Можно только читать и получать удовольствие. А кому нужно, изучать.
Если лирика неприступна, если она склонна к выражению невыразимого (вплоть до невнятицы с сумятицей) и, более того, если «поэзия есть ложь», а произведение, «в котором есть смысл», не имеет права «на существование» (Фет), то как, спрашивается, с какими инструментами исследователь должен подступаться к поэтическому тексту, чтобы развязать в нем нервные узлы и хитросплетения? У каждого литературоведа свои подходы. Излюбленный метод Паперного – сопоставительный анализ. Ставятся рядом два поэта. И дальше, как под микроскопом, до мелких подробностей рассматриваются под углом зрения поставленной проблемы признаки сходства и различия обоих. Двойных портретов в монографии «Дом и мир» и вообще в его статьях о поэтах много – так что ими можно измерить значительную часть богатства поэзии ХХ века: Блок – Маяковский, Блок – Есенин, Цветаева – Пастернак, Пастернак – Маяковский, Пастернак – Мандельштам, Хлебников – Каменский, Маяковский – Пушкин, Блок – Чехов, Хлебников – Крученых, Багрицкий – Светлов и т. д. Своими «двойчатками» З. С. достигает главного: понимания того, чем же именно тот или иной поэт «похож на самого себя» и чем ни на кого не похож, а также каков в итоге его личный вклад в поэтическую копилку литературы.