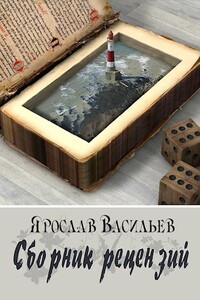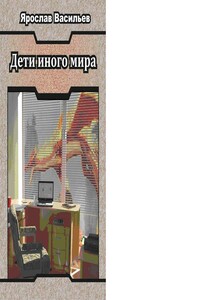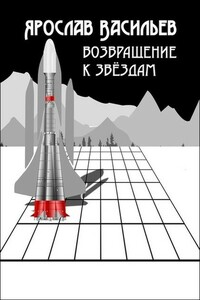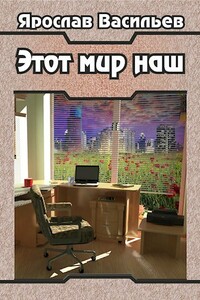Сборник статей | страница 29
Рождением самой первой легенды о вампирах в близком к современному пониманию можно считать сочинение теолога и хранителя Ватиканской библиотеки Льва Аллация (ит. Леон Алаччи), который в 1645 году в своём труде «De Graecorum hodie quorundam opinationibus»[1] описывает неких vrykolakas — трупы, в которые вселился демон. Есть основания считать, что, будучи греком по происхождению, Лев Аллаций знал о вурдалаках греческого и восточнославянского народного фольклора, болгарских verkolakи валашских vlkoslak, а живя долгое время в Европе — о немецких Nachzehrer (посмертных пожирателях, Северная Германия и Пруссия). Но, тем не менее, его идея нова и самостоятельна, в то время как указанные чудища так и оставались «обитателями» своего региона. Развил теорию Льва французский иезуит Франсуа Ришар, когда в 1657 году в Париже вышел его трактат, в котором упоминаются те же vrykolakas, даётся их описание и выводится заключение, что именно враг рода людского наполняет мёртвые тела своей силой и отправляет вредить живым. Наибольшую же известность эта новая разновидность нечисти получила в 1717 году, когда увидело свет посмертное издание «Описания путешествия по Леванту» французского учёного Жозефа Питтона де Турнефора.
Идеи о vrykolakas и Nachzehrer начали развиваться, проникая в сборники и трактаты о потустороннем. Идеи шли отчасти параллельно, но нередко пересекались и дополняли друг друга, наполняя уточняющими подробностями. Это и «Инфернальный протей»[2] Эразма Францисия в 1695 году, «Историко-философское рассуждение о жующих мертвецах» лейпцигского теолога Филиппа Рора[3] в 1679 году и многие другие. Из Болгарии и Валахии пришло поверье, что основные кандидаты на перерождение — внезапно умершие от несчастных случаев, и главное — неожиданно убитые, то есть не знающие, что они умерли. Из тех же регионов взят обычай класть в могилу серп как символ границы меду живыми и мёртвыми и пригвождать потенциально «беспокойного» покойника колом. Из Пруссии пришло дополнение-рассуждение о том, что ожившие мертвецы могут (пока ещё только могут, а не обязаны) пить кровь и тем самым вредить живым: в XVII веке в тех краях прошла эпидемия лёгочной чумы, при которой нередко перед смертью, а чаще у свежего трупа выступала на губах кровь. Общим для всех разновидностей оживших покойников, естественно, был страх порождения дьявола перед крестом и христианскими символами.
Вспышка интереса к ожившим мертвецам в эту эпоху была неслучайной. 12 сентября 1683 г. армия под командованием Яна III Собеского нанесла сокрушительное поражение осадившим Вену турецким силам, после чего на протяжении следующих двадцати лет огромные территории восточной и южной Европы вошли в состав Австрии. В новых провинциях бушевали дотоле незнакомые европейским врачам восточные эпидемии, царила анархия, помноженная на бюрократию. Потому нередко на проделки оживших мертвецов (известных под именами упиров, вампиров, стригоев, мороев и так далее) списывались случаи насилия над женщинами и разбоя. Показательна в этом плане история первого «официального» европейского вампира: Юре или Джуре Грандо, истрийского крестьянина из деревни Кринга, умершего в 1656 году. Согласно рассказу Иоганн Вейхарда фон Вальвазо, «Грандо долго не давал покоя жителям деревни, бродил по ночам, приставал к женщинам и насиловал собственную вдову. Наконец, решено было покончить с вампиром. Священник Михо Радетич и несколько жителей, вооружившись распятием, светильниками и колом из боярышника, отправились на кладбище и раскопали могилу Грандо. В ней обнаружился прекрасно сохранившийся, улыбающийся труп. Попытались было пронзить труп колом, но кол отскочил от тела. Тогда священник поднес к лицу мертвеца распятие и вскричал: „Гляди! Ты, стригон! Вот Иисус Христос! Он спас нас от адских мук и умер за нас. И ты, стригон, не будешь знать покоя!“ При этих словах из глаз вампира покатились слезы. Затем один из крестьян, Миколо Ньена, опасливо попробовал дотянуться до тела мотыгой и отрубить голову вампира; все было напрасно. Только смелый крестьянин Стипан Миласич нашел в себе силы подобраться поближе и отделить голову стригона от тела. Могилу вновь закопали, и после этой операции в деревне воцарился мир». Эти времена обогатили общеевропейские знания о вампирах тем, что они боятся чеснока и не отражаются в зеркалах — ведь в зеркале отражается душа, а у вампира души нет. А также словом «вампир»