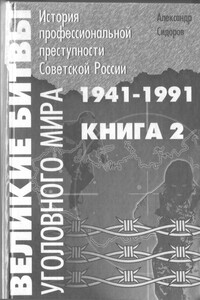Песнь о моей Мурке | страница 10
И далее, уже после войны, в хрущевские времена, от интеллигенции стали требовать безоговорочного осуждения «блатных бардов» так же рьяно, как когда-то блатарей в лагерях натравливали на совпартаппаратчиков и ту же интеллигенцию.
Почему? Да потому, что Хрущев объявил крестовый поход против «воров в законе» и преступности в целом, пообещав показать стране «последнего уголовника». А интеллигенты, прошедшие сталинские лагеря, напротив, как раз находились в это время под обаянием низовой, блатной народной культуры. Они узнали ее, почувствовали ее привлекательность, прелесть, связь с корнями русской (и не только русской) культуры и языка. Да-да, именно интеллигенция выступила мощным проводником и популяризатором уголовно-арестантской культуры русского народа! Это — факт потрясающий.
Леонид Бахнов в эссе «Интеллигенция поет блатные песни» справедливо замечает: «Говорят, блатные песни хлынули в город из лагерей — когда начали выпускать. Наверное. Этого я не застал. Однако подхватила и разнесла их по стране интеллигенция. Для нее эти песни символизировали свободу, непокоренность, отчаянное противостояние фальши и лжи. Что с того, что героями были урки, — инакомыслие тут выражалось на понятном всем языке».
И свобода эта — не в том даже, чтобы противостоять государственной политике. Это — поэтика свободного общения, дружеского круга, какого-то чудесного романтического братства — пусть даже с уголовным антуражем. Что же делать, если официальная советская песня не давала такой возможности? «Эту песню запевает молодежь, эту песню не задушишь, не убьешь» — плакатно-лозунговая риторика чаще всего вызывала не просто отторжение, но даже тошноту. А блатная песня предлагала «настоящие» чувства, задушевность, трагизм, отчаянное геройство и даже жертвенность. И все это — в кругу друзей, «корешей». Вот что пишет тот же Бахнов:
«Что может быть прекрасней — петь в компании «Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела», «Я был душой дурного общества», «По тундре, по железной дороге» и еще много всякого разного, мешая бесшабашную удаль с тоской, душевный взрыд с практическим расчетом, где надо — входя в образ, где надо — над ним же иронизируя… А потом, когда станут приставать: «Спиши слова», так это небрежненько, через плечо бросить: «Могу тетрадку дать. Сам спишешь».
Ответ — вполне в стилистике только что спетой песни, даже как бы ее продолжение.
В голове вертится слово «театр»
Блатная песня и была театр. Общедоступный и общепонятный. Где нет разделения на сцену и зрительный зал, где каждый — во мгновение ока! — может перевоплотиться и сделаться настоящим героем, таким Бывал Бывалычем, которому — что «костюмчик новенький, ботиночки со скрипом», что «халатик арестантский» — все едино. И который, главное, всегда ощущает себя свободным — и тогда, когда для любимой швыряет «хрусты налево и направо», и даже тогда, когда «квадратик неба синего и звездочка вдали» мерцают ему «последнею надеждой». В ней был размах, в блатной песне. Романтика. Юмор. И масса других прекрасных качеств. К тому же, столь часто повествующая об арестантской доле, она и сама находилась как будто бы под арестом — воистину «ворованный воздух»! И еще: ею насыщалась, быть может, самая ненасыщаемая потребность — тоска по братству, по причастности общей судьбе. Пусть ненадолго, пусть иллюзорно — но все-таки…