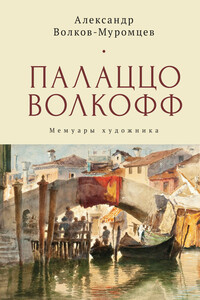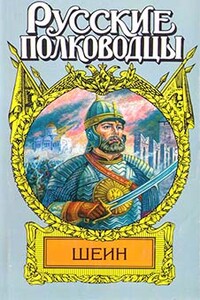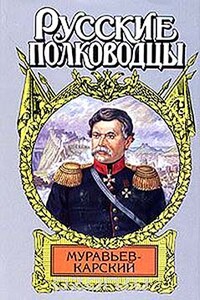На всемирном поприще. Петербург — Париж — Милан | страница 70
В заключении этого длинного послания он говорит: «пока всё клином сходится для нас на успехе моего изобретения… Я почти не сомневаюсь в результате последнего опыта, которого одного еще только недостает. Сегодня Калачев свел меня с господином, который, кажется, не отчаивается достать необходимые средства для этого дела. Он показался мне совершенным шалопаем; но, говорят, это именно и нужно, и есть основание предполагать, что и всякий делец на его месте показался бы мне точно таким. Скорее бы пройти через этот непривлекательный искус; а если опыт удастся, то дело постоит за себя и без дельцов. А тогда?.. Да ближайшим образом тогда придется устраивать целый завод. В нашем исключительном положении о лучшей участи едва ли позволительно и мечтать, тем более, что ведь мы и устраиваемся здесь не на век. — А пока?.. Да вот вчера представлялось превыгодное занятие: в оптовой распродаже химических продуктов выдавать анилиновые препараты за целебные или невинные снадобья… Будущий мой патрон, добродетельный семьянин, знал, что у меня жена и дочь брошены на произвол судьбы, и пустился даже в лирические излияния. Мой отказ, кажется, не шутя оскорбил его нравственное чувство: при всей бросающейся в глаза парижской игривости и разврате, сантиментальность процветает здесь так, как я и не ожидал».
XIII
В назначенный день и час Чебоксарский позвонил, как было указано, у дверей хорошенького домика в одной из бойких Avenue Елисейских Полей. Парижская природа, как и Михнеев, считала этот час, должно быть, очень ранним. Туман и не думал еще подниматься, и только прямо над головою светлело что-то похожее на небо и обещавшее ясный осенний день. Мостовая была покрыта клейкою, темною грязью. Обнаженные деревья уныло торчали по сторонам.
Ему отворила смазливая горничная, одетая как оперная субретка.
Виктор Семенович явился в сером шелковом утреннем наряде с голубыми шнурками и кантами.
— Видите, — и в Париже остался всё тою же русскою свиньею: одиннадцать било, а я еще не чесан и не умыт. Однако, порадую вас доброю вестью: дело ваше налаживается… Погодите, подробности расскажу за завтраком.
Он пошел приводить в порядок свой туалет, попросив Чебоксарского подождать его в приемной комнате, где было почти темно от тяжелых занавесей на окнах. Картины не только на стенах висели в большом количестве, но даже стояли на стульях и просто на полу. Мебели было немного, но всё резная, массивная, старая. Чебоксарский, хоть и не знаток, понял, однако же, что каждый стул или иной предмет, которому он не умел найти даже подходящего названия, представлял собою антикварскую редкость и должен был стоить больших денег. На столе из флорентийской мозаики, с ножкою из черного дерева, лежало несколько порнографических журналов, с рисунками и без рисунков, и новый номер «Фигаро». Тут же, в японской бамбуковой сигарочнице на подножке из слоновой кости, стояли сигары, а подле — пепельница, просто выдолбленная в большом обрубке малахита, необделанного и неполированного. Хозяин вышел в том же утреннем наряде, но причесанный и умытый, с большим ключом в руках.