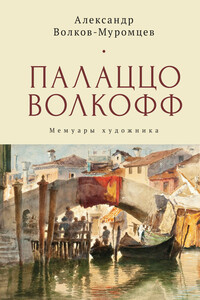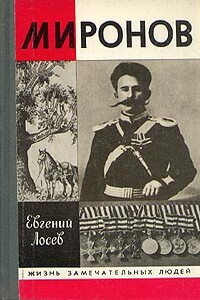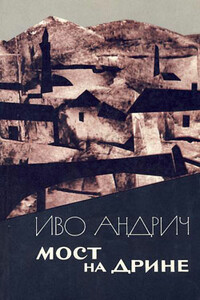На всемирном поприще. Петербург — Париж — Милан | страница 21
Но Богдану всего этого не было нужно. Небольшой кружок его университетских товарищей пришелся ему больше по душе. Там, по крайней мере, все живое не успело еще стереться под стереотипным гнетом общественного положения. Но скоро почувствовал он себя чужим и в этом молодом и пылком кружке. Общего было у него с ним только неудовлетворение общественной жизнью в том ее виде, в котором она представлялась всюду по сторонам, грозя своей пошлой коллективностью пометить все самобытное, личное, что только встретится ей по пути.
Это было то время, когда в петербургском университете ухарство Полежаевских времен[27] не манило уже студентов; когда они равно переставали хвастать аристократическими знакомствами, бобровыми воротниками шинели, и сальными пятнами на сюртуках, и трактирными подвигами, и полученными на экзаменах нулями. Пробуждение молодого поколения от долгого сна, смелые речи, горячие порывы, оживленные споры, — все это увлекало порой и Богдана. Но он сам не верил своему увлечению. Про него говорили: «хороший человек этот Спотаренко, но что-то есть в нем странное…» Странное это было то, что заставляет иногда бледнеть самых отъявленных говорунов перед шумной толпой, то, что-то бесконечно живое, не покоренное еще никакой доктриной, что смущает невольно каждого кабинетного деятеля, когда он столкнется лицом к лицу с жизнью, с действительностью во всей ее непочатой силе. Благодаря этому неуловимому чему-то, Богдан чувствовал, что несмотря на свое тесное знакомство с немецкой философией и на совершенство, с которым он произносил французские слова, он все-таки оставался степняком в Петербурге. Он ближе чувствовал себя к табунщику Матюшке в широчайших шароварах, к широкоплечему косарю, чем к своим петербургским кузенам, и даже к тем из них, которые с жаром говорили о самых опасных предметах, высказывали наилиберальнейшие теории.
А он равно не стремился ни в мученики новых верований, ни на теплое местечко по службе. Все известные ему общественные положения отталкивали его, казались ему узкой рамкой, дозволявшей заснуть в ней с большим или меньшим удобством. А заснуть-то ему и не хотелось. Он даже с отвращением смотрел на свою железную кровать, и ложился в нее с тем же чувством, с каким лег бы в гроб; не иначе при том, как совсем утомленный, обессиленный тревогами, волнением, которого рад бы был бежать, а которого сам между тем искал и сам того не сознавал.
Он чувствовал между тем, что нечто уходит, уносится безвозвратно. Хотел ли бы он, чтобы это нечто остановилось, вернулось? — не думаю. Часто ночью он лежал один в своей маленькой комнате, измученный, раздраженный. А глаза не смыкались. У изголовья часы мирно постукивали, и каждое их тик-таканье отзывалось в нем болью. Ему казалось, что он слышит биение пульса какого-то бесконечно дорогого ему существа. Оно подле, манит… Но все что-то держит его как бы прикованным на ухабистом тюфяке. Он понимал, что и жизнь пройдет, а ему все не удастся схватить, обнять это невидимое, милое существо. И даже, заложив у ростовщика неугомонные часы, он все-таки не мог успокоиться.