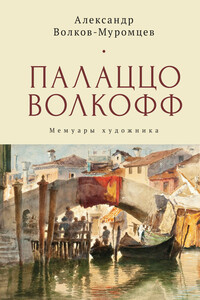На всемирном поприще. Петербург — Париж — Милан | страница 16
По возвращении своем в деревню Богдан нашел жизнь сравнительно более привольную, светлую, чем прежде. Степь и прогулки верхом, лежанье на траве вечерком близ кучки косарей, запах только что скошенного сена и звон завостриваемой косы, смуглые живописные лица, разнузданная лошадь, щиплющая сено из телеги… Опыты волокитства за крошечными кузинами и только что пробуждающееся, непонятное, томительно знойное чувство к полногрудой казачке в «монистах» и «запаске», смущенное стояние перед ней у криницы[22]. Поздним вечером россказни собравшихся у застольной парубков, громкий смех и сказки про ведьм и мертвецов, которых земля не принимает, или песни под балалайку… Переводные стихи Жуковского и своя русская поэзия Гоголя, еще не понимаемая, а чувствуемая… Вот небогатый запас светлых воспоминаний Богданова детства…
Беззаботная жизнь на всем на готовом в родительском хуторе представляла полную возможность предаваться созерцательности, сколько душе было угодно. Сомнительно, чтобы эта деятельная, непочатая натура так и остановилась бы на созерцательности. Но случайность и на этот раз дала толчок.
Чтобы не отдавать его вновь в общественное заведение, мать Богдана сочла за лучшее переселиться со всей семьей в губернский город и домашними средствами приготовить сына к поступлению в тамошний университет. Учение снова началось, но уже далеко не в прежней форме. Для предметов первой важности: французского и английского языков, взяты были соответствующие национальностям учителя с густо накрахмаленными воротничками и другими педагогическими принадлежностями. Остальное воспитание ума и сердца, экономии ради, предоставлено было молодым студентам университета.
Забраковав пять-шесть юных искателей «кондиций»: кого за слишком юные годы, а кого за чересчур семинарскую наружность, разборчивая m-me Спотаренко остановилась на одном: его звали Федор Семеныч Грец.
Это был зрелый уже молодой человек, или, по крайней мере, казался таким; болезненный вид его широкого угреватого лица и синие очки, без которых он никогда никому не показывался, старили его значительно. Он был постоянно серьезен и молчалив, являлся с крайней аккуратностью в назначенные часы. Не курил, волосы носил не безобразно длинные. На вид имел все качества Модестовых, Молчалиных[23] и других идеалов человеческой добродетели. Правда, он произносил фост вместо хвост, но зато не курил грошовых сигар, которых запах пренеприятно щекотал ноздри помещицы. Одним словом, добродетели совершенно искупляли в нем те недостатки, без которых уже никак не может обойтись человек — все равно, как аристократическая дама не может обойтись без косметических средств, или без французских слов в разговоре, как ни старайся умеренно употреблять и те, и другие.