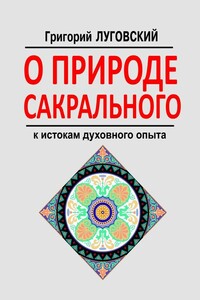Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. Этюды об эпохе принятия Русью христианства | страница 41
Поскольку в империи Карла Великого феодальное земельное пожалование представляло собой главный источник дохода, то монастыри также получали в собственность десятую часть королевских территорий, что можно считать единовременным королевским десятинным взносом. В облагаемые десятиной территории попадала также и часть фискальных владений[203]. В Капитулярии 800 года «De villis» («О поместьях») об этом говорится так: «6. Желаем, чтобы управляющие наши десятину со всего урожая полностью давали церквам нашего фиска, а другим церквам нашей десятины не давать, разве только где установлена исстари. И не иные клирики пусть стоят во главе этих церквей, а только наши – из людей наших или из нашей капеллы»[204]. В Древней Руси церковного землевладения в конце X – начале XI века, по-видимому, не было: в Церковном уставе князя Владимира оно не упоминается, устанавливая в качестве источников обеспечения церкви только десятину и церковные суды[205]. Древнерусская десятина собиралась по упрощенному принципу (по принципу дани, т. е. фиска) прежде всего в силу отличия характера землевладения. Выше отмечалось, что характер получения десятинных денег на Руси в конце X–XI веков неясен. В Западной Европе уплату десятины возлагали на население, поскольку сбор ее проводился по территориальному принципу[206]. Возможно, внедрение некоторого подобия этой практики можно увидеть и на Руси, поскольку к концу XI века десятина уже точно собиралась князьями в пользу местных епископий[207].
Правда, меры христианизации путем внедрения десятины в покоряемые земли встретили непонимание среди части приближенных Карла. Так, Алкуин считал вводимую практику выплаты десятины среди германцев вредной для их веры[208]. Десятина скорее была знаком покорения племен франками, чем средством распространения веры. С другой стороны, напротив, оно было раздражающим фактором, придававшим восстаниям саксов резкий антихристианский характер[209]. По мнению Алкуина, только через столетие покоренные народы осознают разницу «между данью как знаком подчинения чужой власти и церковной десятиной для поддержания духовных учреждений по библейскому образу»[210]. «Мы знаем, что взимание десятины с нашего владения – дело правильное. Но лучше потерять десятину, нежели веру. Мы же, рожденные, воспитанные и наставленные в соборной вере, едва ли согласимся, чтобы все наше владение облагалось десятиной; насколько упорнее тогда нежная вера, детский разум и скупые чувства будут противиться этому пожертвованию?» – писал он