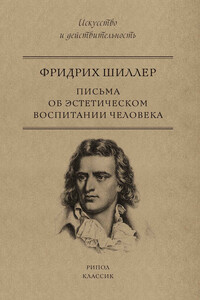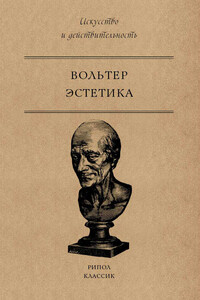Критик как художник | страница 56
Эрнест. Это очень доблестное «если», как сказал бы Оселок у Шекспира. Но неужели вы серьезно думаете, что каждый должен стать своим собственным Босвэллем? Во что же тогда обратятся наши трудолюбивые составители «Жизнеописаний» и «Воспоминаний»?
Гильберт. А во что они обратились теперь? Это положительно современная чума! В наши дни у каждого великого человека есть ученики, но его биографию непременно пишет иуда.
Эрнест. О, милый мой!
Гильберт. К сожалению, это правда. Прежде мы канонизировали наших героев. Теперь же мы их вульгаризируем. Дешевые издания великих книг могут быть очаровательны, но дешевые издания великих людей совершенно нестерпимы.
Эрнест. Нельзя ли узнать, Гильберт, на кого вы намекаете?
Гильберт. Ах, на всех наших второсортных литературщиков. На нас нахлынула шайка людей, которые, когда умирает поэт или художник, приходят в дом вместе с гробовщиком и забывают, что их единственный долг – быть безмолвными, как факельщики. Но не будем говорить о них. Это просто литературные могильщики. Одному достается прах, другому достается пепел, но душа недосягаема для них. А теперь, хотите, я сыграю вам Шопена или Дворжака? Сыграть фантазию Дворжака? Он создал такие страстные, причудливо-красочные вещи.
Эрнест. Нет. Сейчас мне не хочется музыки. Она так неопределенна. Кроме того, я вчера вечером сидел за столом рядом с баронессой Бернштейн, и, хотя она действительно прелестна, ей непременно хотелось рассуждать о музыке, точно музыка была написана на немецком языке. Во всяком случае, каковы бы ни были звуки музыки, они, к счастью, не имеют никакого сходства с немецкой речью. Какие унизительные формы принимает порой патриотизм! Нет, Гильберт, не играйте больше. Повернитесь сюда и разговаривайте со мной. Говорите со мной, покуда белорогий день не заглянет к нам в комнату. Что-то чудесное есть в вашем голосе.