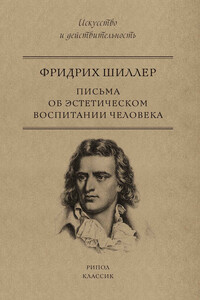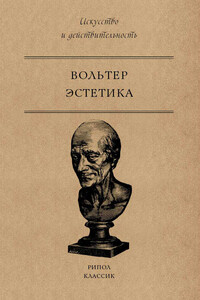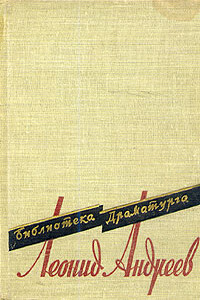Критик как художник | страница 109
Весьма возможно, что все это только легенда, однако от этого рассказ не теряет своей ценности, указывая на отношение эпохи Возрождения к Древнему миру. Археология не являлась в то время только наукой антиквария; она была средством, благодаря которому сухую пыль древности оживили дыханием истинной красоты жизни и наполнили новым вином романтизма древние сосуды, которые без него были старыми, отжившими. Влияние этого духа можно наметить, начиная с кафедры Никколо Пизано и вплоть до сервиза, задуманного Челлини для короля Франциска; он не кончался на неподвижных искусствах – искусствах застывшего движения, – его влияние можно видеть и в греко-римских маскарадах, бывших постоянным развлечением веселых дворов той эпохи, и в народных торжествах и процессиях, которыми граждане больших торговых городов по обычаю встречали посещавших их высокопоставленных особ. Эти зрелища считались столь важными, что с них изготовлялись и печатались большие гравюры – факт, доказывавший общий интерес к событиям этого рода.
Такое применение археологии к зрелищам и процессиям ни в коем случае нельзя назвать пошлым педантизмом; наоборот, оно законно и прекрасно.
Ведь сцена не только служит местом сборища для всех искусств; на сцене искусство также возвращается к жизни. Случается, что в археологическом романе употребление известных и устарелых слов может затмить действительность своей ученостью. Я уверен, что многие из читателей «Собора Парижской Богоматери» становились в тупик перед значением таких выражений, как «la casaque à mahoitres», «les voulgiers», «le gallimard taché d’eencre», «les craquiniers» и т. д. На сцене это нечто другое! На сцене древний мир пробуждается от сна, и история, словно яркий кортеж, проходит пред нашими глазами, не заставляя нас обращаться к словарю или энциклопедии для завершения нашего удовольствия. Действительно, нет ни малейшей надобности в знакомстве публики с авторитетами, необходимыми для постановки пьесы. Из такого материала, например, как диск Феодосия, материала, который не особенно известен, вероятно, большинству зрителей, актер Е. В. Годвин, один из наиболее художественных умов Англии этого столетия, создал очаровательную красоту в первом акте «Клавдиана», показав нам жизнь Византии четвертого века не в скучной лекции, не в коллекции грязных слепков, не в романе, для понимания которого необходим словарь, но в наглядном изображении всей славы этого великого города. И в то же время, как костюмы были выдержаны до малейших тонкостей в цвете и рисунке, деталям не придавалось то нелепо преувеличенное значение, которое они бы по необходимости заняли в отрывочной лекции; наоборот, эти детали были подчинены законам высшего творчества и единству художественных эффектов. Симондс, говоря о великой картине Мантеньи, находящейся теперь в Гэмптон-Корт, заключает, что художник обратил археологический мотив в тему для мелодии линий. С той же справедливостью то же самое можно было сказать о постановке Годвина. Только глупцы назвали ее педантичной, только не желавшие ни слушать, ни смотреть говорили, что страстную силу пьесы погубила ее красочность. В действительности же сцена была не только идеально живописна, но также и полна драматизма. Не нуждаясь в скучных описаниях, она показала нам цветом и видом костюма Клавдиана, а также одеждой его окружающих весь характер и жизнь этого человека, начиная от его философских взглядов и кончая указанием, на каких лошадей он ставил на бегах.