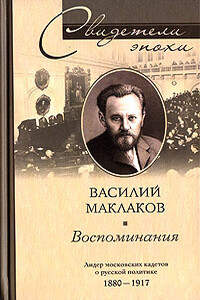Первая Государственная дума. От самодержавия к парламентской монархии. 27 апреля – 8 июля 1906 г. | страница 41
Думское «действие» этого первого дня ознаменовалось тремя эпизодами-символами.
Во-первых, речью Петрункевича об амнистии. Эта речь была неожиданностью; в собрании «объединенной оппозиции» 26 апреля она не предусматривалась и, конечно, была не нужна. Но депутаты были так взволнованы «улицей», которая вопила «амнистия», маханием платков из Крестов, мимо которых их вез пароход, что они решили немедленно «реагировать». Чтобы успокоить волнение и дать страстям какой-либо выход, изобрели беспредметную речь Петрункевича. Mise en scene удалась превосходно. Речь была короткой и сильной. Были приподняты и взволнованы все. Но она была только «символическим жестом»; практического смысла в ней не было и быть не могло. Символический же ее смысл Милюков усматривал в том, что «первое слово с думской трибуны было посвящено героям свободы» («Речь», 28 апреля). У этого символа, впрочем, была и другая сторона, не менее поучительная. Эта речь показала преобладающее значение, которое Дума придавала «жестам», предпочитая их «результатам»; показала пренебрежение и к законам, ибо правила 18 сентября, которые сам Муромцев называл именно законом, этой речи не допускали. Но, конечно, это формальное нарушение не стоило того, чтобы о нем препираться. А поскольку этот жест мог помешать другим более рискованным предложениям об амнистии, он был даже удачен.
О втором жесте можно было бы и совсем не говорить, если бы он не оказался «замечен» и «отмечен» больше, чем стоил. Для истории он останется непонятен. В стенографических отчетах он передан так:
«Председатель. Я прошу посторонних уйти с мест, назначенных для членов Государственной думы, иначе баллотировка будет невозможна. Приступим к баллотировке» и т. д.
Только и всего; в чем же здесь жест? И однако это происшествие привлекло внимание летописцев. Вот в каких торжественных выражениях говорит о нем Милюков («Речь», 28 апреля). «Поднялся Председатель и сказал свое первое слово. Это было опять то же слово твердое™, слово спокойной, уверенной в себе силы. Это говорил хозяин собрания, и он – характерная мелочь – показал настоящее место гостям, позабывшим, что они уже не хозяева, приказав им выйти из зала».
В чем же тут дело? Кому это приказали выйти из зала? Это искажение отчета – не хуже Эмской депеши – скрывало за собой очень незначительный факт; и потому интересен не факт, сколько проявленное к нему в обществе отношение. Оно сказалось не у одного Милюкова. Через несколько дней в Москве на обычном журфиксе Н.В. Давыдова я слышал от очевидцев его пересказ. Вот в чем «происшествие» заключалось. Служащие по канцелярии в этот торжественный день пришли посмотреть, как открывается Дума. Не найдя себе места на трибуне, им отведенной, они расположились в проходах. Это был беспорядок; они своим присутствием мешали голосовать, и Муромцев громким голосом «просил» их уйти с мест, назначенных для депутатов. Сконфуженные, они торопливо перешли на другие места. Эту легкую победу над канцелярскими служащими и воспевал Милюков, утверждая, будто председатель «приказал гостям выйти из зала».