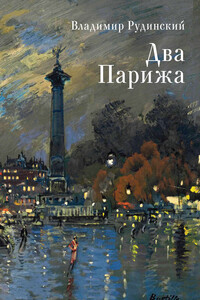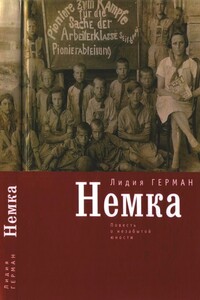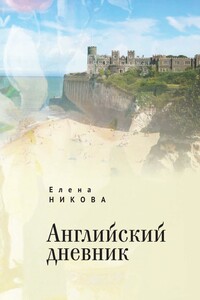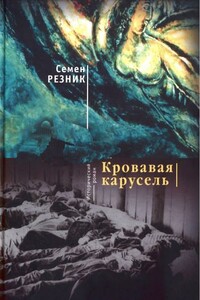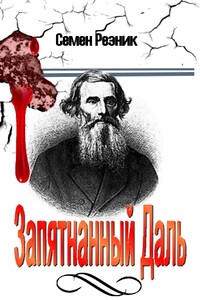Логово смысла и вымысла. Переписка через океан | страница 43
Как‐то в воскресный день мы сидели с моим приятелем у него дома и пили чай. Приятель — знаменитый литературовед, специалист по зарубежной литературе, и говорили мы, в общем‐то, все о том же, что всю жизнь интересует его и меня: об искусстве складывать слова. Приятель этот (имя его не пишу) литературовед, легко до него докопаться, как, скажем, докопался В. Набоков в своем приложении к «Евгению Онегину» и до четы Скотининых, и до Простакова, и до двоюродного братца Буянова — всё на виду. Говорили мы с ним, кстати, и о Набокове. Приятель мой в юности (теперь уже в юности, потому что дело было лет 30 назад) первым в нашей, тогда советской, прессе опубликовал что‐то о Набокове. Естественно, возник разговор о «можно и нельзя», то есть о цензуре. Разговор оказался для меня интересным, потому что последнее время я об этом много размышлял. И задал я этот вопросик приятелю в лоб. А он мне в ответ: «Это вопрос сложный». И рассказал историю, как впервые в Библиотеке им. Ленина, в спецхране, читал набоковскую «Лолиту».
Дело, естественно, происходило тоже несколько десятков лет назад. Вот мой пересказ этой истории. Значит, мой высоколобый приятель уже с соответствующим письмом и резолюцией на нем приходит в этот спецхран и подает заявочку. А на это ему спецхранительница сразу и отвечает: «А мы, значит, порнографическую литературу после 4‐х часов дня не выдаем». Ну, то ли у них спецхранительница какого‐нибудь специального шкафа работала до 4‐х часов, то ли, по мысли этих многознающих женщин, человек действительно после 4‐х часов дня мог от чтения литературы так возбудиться, что натворил бы множество бед. Но история на этом не кончилась. Через несколько дней, когда мой приятель уже в дневное время пришел, чтобы дочитать оставленную по заявке книжку, он обратил внимание, что та самая спецхранительница держит в руках томик с «Лолитой», как я уже сказал, недочитанный моим приятелем. И дальше, то ли с этим томиком очень ей не хотелось расставаться, то ли действительно бушевал в ее сердце общественный темперамент, но, выдавая книжку, она сказала: «И как вы только можете читать такую пакость и грязь!» И тут мой приятель, человек, который за словом в карман не лезет и который прекрасно знал все тогдашние правила, ей говорит: «А вы эту книжку вообще читать не имеете права». Боже мой, какой страх тут появился на лице бедной женщины!
Но все это я веду к последней фразе за этим воскресным чаепитием: «Ну так все‐таки, дорогой друг, нужна цензура или нет?» Мой друг пожевал своими морщинами, отпил глоточек уже остывшего чаю и сказал: «Владимир Владимирович пришел бы в ужас, если бы узнал, что так много народу читает это его сочинение».