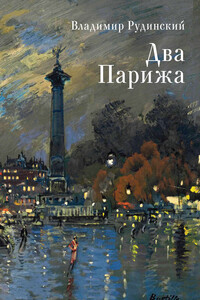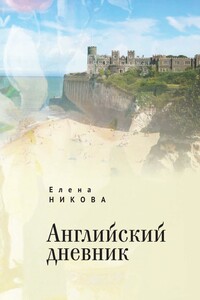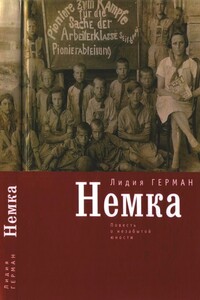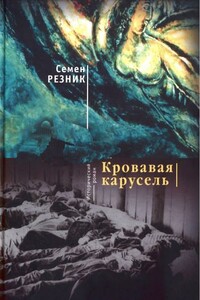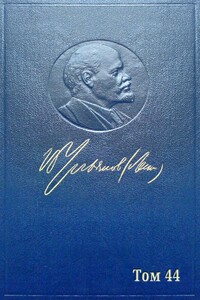Логово смысла и вымысла. Переписка через океан | страница 30
Мандельштам, вместо традиционной, кисло‐сладкой рецензии, придумал пространную метафору. Можно представить, как молодой поэт лихорадочно рыскал глазами, спотыкаясь только на своем имени, на том, что касалось непосредственно его. Зачем ему были нужны эти красоты и рассуждения! Но что же пишет этот акмеист! «Перед нами замечательное патриархальное явление русской поэзии Фета». Пастернак — эпигон какого‐то Фета? Фет — прошлый век! «Величественная домашняя русская поэзия уже старомодна, она безвкусна…» Это о нем‐то, каждое слово которого — как упрек уходящей традиции! Это о стихах, куда вложен весь пыл его молодой жизни! Какой позор: «Книга „Сестра моя — жизнь“ представляется мне сборником прекрасных упражнений дыханья…»
В то мгновенье, сдерживая дрожь в руках, чтобы не плясали строчки, Борис Леонидович, наверное, хотел, по моде того времени, застрелиться. Или застрелить. Револьвера не было под рукой. Это у предусмотрительного Маяковского было пять разрешений на ношение боевого оружия! Но как эти строчки запомнились, как это отложилось на всю жизнь! Уже позже, вернувшись к отброшенным вначале пассажам из ненавистной рецензии, Пастернак поймет талантливое и неизбежное продолжение каждой фразы. Поймет изысканный контекст этих собранных в щепоть гениальных абзацев. Но отражение первого восприятия смысла предательской змейкой, как в корзине Клеопатры, уляжется в душе. Первоначальный мстительный гнев.
И опять в своем сознании Саня возвращается к легендарному разговору. Как это сладко — договаривать и решать за великого поэта и великого тирана. Поэт в домашних тапочках, тиран в римской тоге. Повинуясь неосознанному авторитету власти, поэт навытяжку стоит у телефона; тиран поигрывает телефонной трубкой, как кастетом. Какое это блаженство — сыну сапожника унизить интеллигента во втором поколении. Папа рисует, мама играет на фортепиано. С Львом Толстым, видите ли, дружили.
У поэта приливная волна того старого гнева уже давно трансформировалась и улеглась, но, тем не менее, в этот момент испытания и личной опасности снова чуть всколыхнулась и приподнялась над резким всхолмлением телефонного разговора. Поэт не может быть неискренним, никогда. Пастернак знал это и попытался объяснить Сталину, что в литературе есть дружба и есть отношения. Здесь, как за кулисами театра, все очень сложно. Но птицелов уже везде разлил клей, на котором должна была прилипнуть птичка.
«Но ведь он же мастер, мастер!» — Сталин провесил эту мысль как раздражающую приманку. Может быть, он и рассчитывал на неадекватный восточному представлению о дружбе ответ.