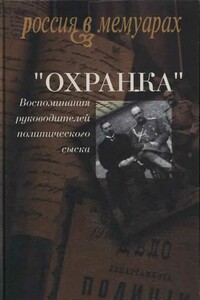«Печаль моя светла…» | страница 36
Удивительно, но мало что помню о самом учении, а потому подозреваю, что мне было скучно, пока другие девочки учились складывать буквы в слоги и слова. Но знаю, что всегда любила пересказы, а также деление текстов на абзацы и очень скоро на удивление полюбила устный счет. Даже подпрыгивала со своей вздернутой рукой, но Анна Яковлевна почему-то меня упрямо не замечала. Она, наоборот, любила «придираться» к моим кривым прописям и кляксам, быстро расползавшимся по противной волокнистой бумаге, так тщательно расчерченной моей мамой. Чистописание я ненавидела всей душой, но оно появилось в расписании, кажется, годом позже. Еще невозможно забыть, как коченели руки у нас, детей, в неотапливаемом классе и как часто наша Анна Яковлевна растирала особенно сизые руки – мои и дрожащих от холода одноклассниц. Не случайно одна из них чуть позднее по ошибке написала в своем дневнике вместо «Классный руководитель» «Классный родитель», чем насмешила весь класс, но, видимо, порадовала Анну Яковлевну, прочитавшую эту оговорку вслух.
Первое время по утрам и после школы меня сопровождала бабушка, а потом потихоньку меня стали отпускать одну. Я не сопротивлялась, так как на обратном пути любила побродить, в том числе по развалинам, где часто пленные немцы разбирали их на кирпичи и всегда рады были русским «киндерам» («детям»). В развалинах тогда лежала, в частности, бывшая Маринина поликлиника на Пушкинской, как и дома на Пушкинской вокруг Березового скверика, который я проходила по диагонали, идя в школу и обратно. Сейчас мне трудно сказать, когда их восстановили, но в целом Полтава отстраивалась, по-моему, до начала 50-х годов, и я до сих пор помню, в какой последовательности радовал глаз чуть ли не каждый возрожденный дом нашего района.
Вообще же то чувство истории, которое я остро ощущаю в себе к старости, было заложено в детстве именно Полтавой. Я ее запомнила в постоянной динамике перемен – исторических, общественных, архитектурных.
Конечно, в том, что мне все видится во времени, огромную роль сыграла моя бабушка. Как и все бабушки, она представляла собой живую историю. При этом она просто не умела, не могла не одухотворять вокруг себя чуть ли не каждую вещь в доме. Вспоминаю ее обычные реплики или диалоги с любым из нас. Например, с моей мамой: «Ах, Татá, ты забыла убрать из сада апухтинское кресло! Оно же страдает под дождем и рассохнется!» (Деревянное резное кресло, рассчитанное на очень полного человека, любил поэт Алексей Николаевич Апухтин, часто гостивший в семье прадедушки.) Или разговор с двух-трехлетним Сережей: «Иди, Сережик, сюда, поцелуй эту фотографию. Ты знаешь, кто это? Это твой дедушка, он добрый-добрый. Его тоже звали Сережик, когда он был маленький. Он бы очень любил тебя, но простудился на охоте, сильно заболел и, бедненький, умер. Видишь, его как будто забыли. Поцелуй его». Или самый обычный бытовой эпизод с моим участием: «Ну-ка, Лида, прошу тебя, полезай на рояль. Ты еще легкая и хорошо вытрешь пыль вон там, на резной полке, на конях Клодта, они там задыхаются от пыли, а раньше в прадедушкином кабинете они, небось, дышали хорошим воздухом».