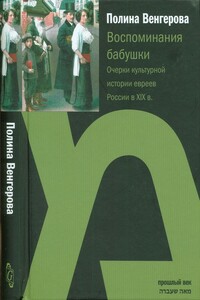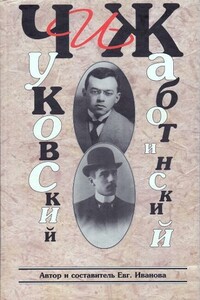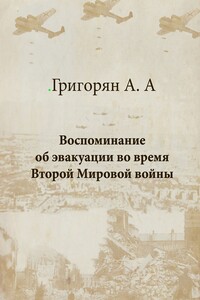Одесса — Париж — Москва. Воспоминания художника | страница 27
— Хорошо, я вас нарисую.
— Но я не торговка. Каждая моя копейка залита потом и кровью, я не могу платить бешеных денег. Вы меня поняли?
Она глубоко и громко вздохнула.
— Да, я вас понял.
1924. Две женщины с детьми. Бумага, угольный карандаш, акварель. 21×24
— Вы мне должны сделать уступку и взять два рубля. И вы ничего не потеряете. Я вам белье постираю и заштопаю, пол вымою…
— Хорошо, — согласился я.
Она мягко улыбнулась. Небольшие, чернозолотистые глаза смотрели благодарным взглядом.
— Теперь я могу идти домой и взяться спокойно за свою работу.
Она встала. Быстро собрав свои тряпки, она ловким движением завернула в них ребенка и, шаркая по полу желтыми мужскими штиблетами, вразвалку пошла к двери.
В дверях она остановилась, обернулась.
— Да, совсем забыла… Я хотела бы, чтобы вы мне… кроме золотых часов с монограммой и броши нарисовали… — и, слегка покраснев, она почти шепотом добавила, — бриллиантовые серьги… Только не очень большие… лучше маленькие.
— Все будет сделано, — обещал я.
Невыразимая радость, наполнившая до краев ее сердце, осветила ее круглое, мясистое лицо. Изливая свои чувства, она крепко прижала к себе ребенка и стала целовать его, звучно причмокивая. Она приходила ко мне ежедневно. С ребенком и узелком, туго набитым тряпками. Непринужденно усевшись на мой единственный стул, Рахиль медленно расстегивала изумрудную вязаную кофту и, ловко вынув свою могучую, розовую грудь, с каким-то подчеркнутым достоинством счастливой матери начинала кормить ребенка.
Меня в ней поражали не только груди, но и великолепной рубенсовской формы шея и колени. Глядя на Рахиль, я часто думал, что для живописи она олицетворяет неувядаемый образ еврейской женщины. Я рисовал ее цветными грифельками на французской шероховатой бумаге.
Чтобы развлечь меня, она негромко напевала еврейские песенки. Чудесные песенки бедноты, в которых чувствовалось никогда не унывающее веселое сердце. Часто вскакивая, она клала ребенка на кровать и, подойдя к портрету, волнуясь, тихо спрашивала:
— Скажите, художник, будет ли всем ясно, что в ушах моих настоящие бриллианты?
— Будет, — заверял я ее.
— Подумайте, — победно улыбаясь, повторяла она, — за каких-нибудь два рубля вы меня делаете нарядной. Вы — чародей.
Портрет не удавался мне. Чем больше я тратил сил, тем слабее были его качества. Заказчица в конце концов это почувствовала. Наблюдая мои трудовые усилия сделать работу эффектной, она с нескрываемым огорчением заметила: