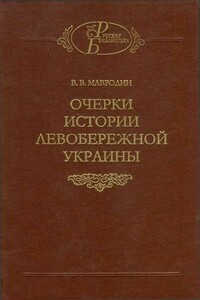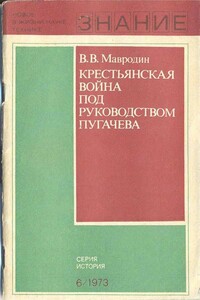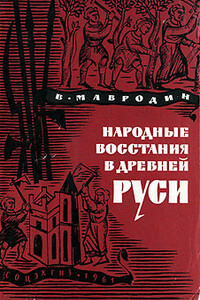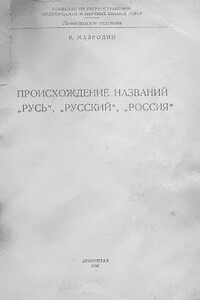Древняя и средневековая Русь | страница 21
Понятно, почему мы считаем возможным говорить о том, что в формировании приднепровского славянства приняло участие и земледельческое скифское население I тысячелетия до н. э. Однако этого недостаточно, и мы вправе поставить вопрос о роли скифского периода в истории формирования славянства. Она очень велика.
Мы не можем не признать в скифских земледельческих племенах протославян.
Но этого мало. Дело в том, что в скифские времена складывались обширные племенные союзы оседлых земледельческих племен. Целью этих союзов являлась оборона от подвижных и сильных, воинственных и алчных кочевников. Только наличием таких крупных межплеменных образований может быть объяснено создание в лесостепи целой мощной укрепленной линии, состоящей из городищ и длинных земляных валов, относящихся к скифской поре. Эти тянущиеся на сотни километров укрепленные поселения и валы могли быть воздвигнуты только трудом многих тысяч людей, что предполагает наличие племенных союзов, так как отдельные племена не были в состоянии создавать такие сооружения.
В процессе длительной многовековой борьбы оседлых земледельческих скифских племен с кочевниками, в процессе их объединений складывалась языковая, культурная и бытовая общность. Она охватывала обширную территорию, выходящую за пределы Среднего Приднепровья.
Славянство вступало в первую историческую фазу своего формирования.
Отсюда, из глубины скифского мира, берут свое начало русско-скифские связи, так ярко охарактеризованные А. И. Соболевским и Н. Я. Марром, равно как и наименование греками отдаленных потомков скифских земледельческих племен — летописных русских — по многовековой исторической традиции «скифами» и «тавроскифами». Этим объясняются сходство антропологического типа скифа и древнего славянина, наличие у славян пережитков скифских религиозных представлений и т. п.
Около нашей эры в Поднепровье появляется культура «полей погребальных урн», возникающая несколько ранее в западных областях Центральной Европы, в районах древней «лужицкой культуры», т. е. в тех местах, где еще в конце неолита и в эпоху бронзы наметилась культурная общность, которую мы вправе назвать этногенезом протославян.
«Поля погребальных урн» охватывают Бранденбург и Лужицы, где доходят до Эльбы, Северную Чехию, Моравию, Познань, Закарпатье, Галицию и Польшу. В Восточной Европе они распространены на Волыни, Среднем Приднепровье, где «поля погребений» выходят частично на левый берег Днепра у устья Десны и южнее, в Полтавской области, в бассейне Западного Буга, где они встречаются восточнее и севернее Бреста до Гродно, а на северо-востоке северные «поля погребальных урн» доходят до верховьев Днепра.