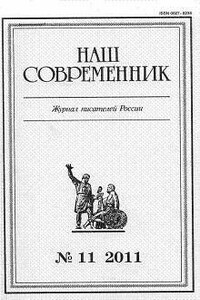В День Победы | страница 40
— Возьмем Сашу. Пусть фотоаппарат свой захватит. Подвиги нам будет фотографировать. Он все ждет, когда начнутся подвиги.
— Я лед фотографировал, — отозвался Саша с достоинством. — Потому, что это красиво.
— Красиво? Вы сказали, что это красиво? — переспросил капитан.
— Красиво.
— Боцман, а это в самом деле красиво, — сказал Беридзе. — Он прав, боцман. Посмотри-ка!..
Герасимов кисло глянул на палубу и кратко выразил свое мнение:
— Пес с ним…
— Дальше было вот как, — вдруг произнес капитан.
Боцман стал прислушиваться, покачиваясь в ритме волн на согнутых в коленях ногах.
— Дальше обледенели. Как сейчас. Было десять градусов. Мы обледенели, английские корабли обледенели. Декабрь месяц… Шли с дифферентом на нос, — спокойно продолжал Беридзе, склоняясь к задумчивости, — потому что заливало бак. Ребята рубили лед. Было за полночь — вахта третьего штурмана. Володя держался на мостике возмутительно. Я его стал ненавидеть. Флагман сигналит: сообщает, что будем заходить в Рейкьявик и отстаиваться. Немного погодя с английского охотника радируют, что акустик слышит лодку. Охотник шел по левую сторону каравана, а другой охотник тоже передает, что есть лодка. Значит, отряд лодок. «Может, отряд капитана Штока», — так я подумал, до войны тот был капитаном торгового флота с дипломом Ллойда. Смелый был подводник. Говорили, будто однажды зашел в Портсмут и торпедировал крупный танкер на рейде. Вот такой был, зараза. Я шепчу Володе: «Будь мужчиной. Зубами не стучи». — «Хорошо, — отвечает тоже шепотом. — Я постараюсь. Я ничего не могу с собой поделать, но буду стараться. Я не то чтобы смерти боюсь… Я сам не знаю, почему я так боюсь».
— Сначала немцы торпедировали третий после флагмана пароход. Горел как свечка. Там капитаном был Красильников. Погружались они носом, еще лед помогал, но ребята успели опустить шлюпки и высадиться, я видел в бинокль. Когда немцы стали атаковать, Володя будто приклеился к мостику подошвами. Стоит как накрахмаленный. Глаза расширил. Рот открыл. Я прямо зашипел: «Иди в рубку! Ныряй на диван и затыкай уши! Уходи с мостика! Чтоб духу твоего не было!» Он ни слова. Уходит в рубку. Гляжу — снял фуражку и трет подкладкой лицо. Тут наблюдающий с кормы закричал: торпеда градусов сто двадцать от курса. След видно хорошо — сполохи, да еще горит пароход Красильникова, море освещает. Выстрел с короткой дистанции. Пароход мой крупнотоннажный, обледеневший, большая инерция. Рулевой положил руль на борт. Стали, как положено, уходить, но не ушли. Ребята били из кормового пулемета по торпеде, не попали… Взрыв очень сильный. В легкие будто воздух насосом качнули. Пароход прям подпрыгнул. Я стукнулся лицом о рубку. Гляжу, на корме черный дым рассеивается. Попало в четвертый трюм. Ребята у пулемета убиты, наблюдающий убит, второй помощник убит, пулемет вырвало с фундамента и откинуло в сторону… Пластырь под такую пробоину не завести. Командую: покинуть судно. Ребята кинулись к шлюпкам. Про Володю в суматохе позабыл, потом вспомнил. Забегаю в штурманскую: стоит Володя совсем белый, ухватился за штурвал радиопеленгатора. Я ему: «Немедленно к шлюпке!» Он повернулся, уставился и не мигает. «К шлюпке! — говорю. — Ты что — оглох?» Не отвечает: держится за пеленгатор. Попытался отцепить — никак. «Если, — говорю, — сейчас же не отпустишь руки и не побежишь к шлюпке, пристрелю!» Пришел в себя. Гляжу: слезы на глазах, как мальчишка маленький, обиженный… «Застрелите, — говорит, — товарищ капитан». — «Быстро на палубу!» — говорю…