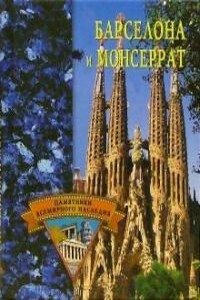Свободный танец в России. История и философия | страница 33
. Точное соответствие музыке должно было достигаться спонтанно, «рефлекторно», а не путем анализа, убивающего непосредственное чувство. Некоторое время Руднева с коллегами преподавали музыкальное движение в петроградском Институте ритма. На их занятиях ученицы чувствовали «какую-то неземную радость» от того, что «не нужно считать, не нужно тактировать»[204]. Это была свобода, которую танец отвоевывал у музыки.
В середине ХХ века немецкий философ и музыковед Теодор Адорно разделил слушателей музыки на «экспертов» — профессиональных музыкантов, музыковедов — и просто «хороших слушателей». Последние тоже слышат отдельные музыкальные детали, высказывают обоснованные суждения, но — делают это не аналитически. «Хороший слушатель… понимает музыку примерно так, как люди понимают свой родной язык, — ничего не зная или зная мало о его грамматике и синтаксисе, — неосознанно владея имманентной музыкальной логикой»[205]. Главным открытием свободного танца было то, что «хорошего слушателя» можно воспитывать через движение. Подобно работавшим примерно в те же годы Далькрозу или Карлу Орфу, «Гептахор» создавал свою систему музыкально-двигательной педагогики[206].
Возможно, засилье различных «рефлексологий» привело к тому, что к концу 1920‐х годов связь музыки и движений стала пониматься упрощенно-механически — как нечто, поддающееся раскрытию естественнонаучными методами[207]. Существовал соблазн укротить музыку, превратив ее из «великого и страшного дела» в «эмотивное средство» или орудие «поднятия в массах жизненной бодрости и радостности». За ней еще признавалась сила воздействия и даже способность вызвать «общий коллективный экстаз». Однако, по мнению организаторов массовой работы и самодеятельности, музыка должна была «бодрить, а не нервировать», «поднимать и сближать людей, а не заражать их риском свернуть шею»[208]. Как тут не вспомнить рекомендованные Платоном «бодрящие песни, по своей природе ведущие к надлежащему», и в целом его программу использования музыки для государственного контроля. К счастью, как мы убедились в этой главе, у танцовщиков находила отклик не только мысль о единстве музыки и движения, но другая идея древних — о том, что в танце едины душа и тело.
Глава 3. Пляски Серебряного века
В пляске все внутреннее во мне стремится выйти наружу, совпасть с внешностью, в пляске я наиболее оплотневаю в бытии, приобщаюсь бытию других; пляшет во мне моя наличность