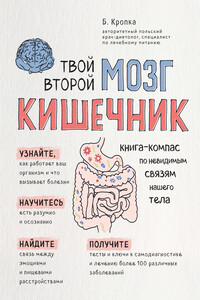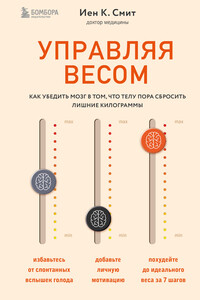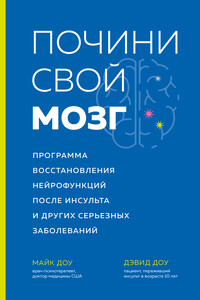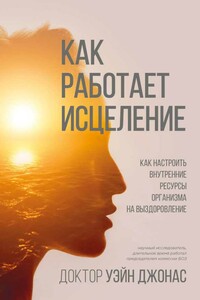Бессмертные. Почему гидры и медузы живут вечно, и как людям перенять их секрет | страница 41
Однако такое уверенное отношение стало распространяться только в течение последних двух десятилетий. Эволюционные теории старения были разработаны в середине двадцатого века и, несмотря на значительные успехи в нашем понимании, имели ироничный и неприятный побочный эффект. Старение долгое время в значительной степени игнорировалось биологами, рассматривалось как явление постепенного ухудшения жизнеспособности, не поддающееся изучению. Эволюционные теории подчеркивают эту безнадежность: они предполагают, что многие процессы, вероятно, будут способствовать старению, без очевидного ограничения их числа. Могут существовать сотни или даже тысячи различных факторов, взаимодействующих мириадами различных способов, и все они сговорились покончить с нами. Эволюционная теория усложняет представление о старении как о процессе настолько запутанном и многогранном, что оно вряд ли когда-либо окажется понятым, не говоря уже о том, чтобы лечиться.
Если мы хотим быть уверенными в понимании старения и в конечном счете в его излечении, то должны быть убеждены в том, что с ним можно справиться в иных, не в эволюционных временных рамках. Открытия, которые позволяют нам вообразить это, являются предметом следующей главы.
3
Рождение биогеронтологии
Современные исследования старения – они часто называются «биогеронтология» – биологическое подмножество геронтологии, которое охватывает все: от медицинской помощи пожилым людям до социальных аспектов старения. Безрассудно выбирать точную дату зарождения научной области. Но формирование биогеронтологии как отдельной важной дисциплины, возможно, началось в 1990-х годах – шокирующе недавно для области, которая занимается одним из самых значительных, почти универсальных явлений, поражающих живых существ.
Трудно точно определить, почему исследования старения так долго оставались в тени биологии. Существовавший ранее скептицизм в отношении того, что старение слишком сложно для серьезного изучения, подчеркиваемый эволюционным пониманием этого явления, предполагающим, что этому способствует почти бесконечное число процессов, безусловно, сыграл свою роль. Кроме того, существуют социально-научные факторы: ни у кого из ученых или политиков, финансирующих их, нет родителей или бабушек и дедушек, которые умерли от старости как таковой, поэтому исследования таких заболеваний, как рак, которые непосредственно ответственны за смерть, как правило, привлекают больше внимания. Ученые также склонны группироваться по темам исследований: в науке есть тенденции и причуды, так же как в музыке и моде. Возможно, исследования старения имели невысокий статус отчасти потому, что по какой-то причине они так и не достигли научной критической массы?