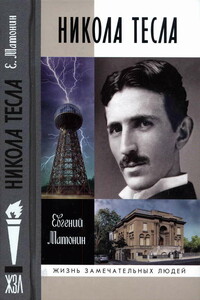«Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке | страница 22
Более всего они страдали от ограничения и контроля переписки с родными и близкими. Вся корреспонденция шла через иркутское ведомство, где подвергалась цензуре. В том случае, если в письме встречалось слово «ксендз», неоднозначные выражения, описания положения ссыльных или использовался неизвестный цензору язык, оно возвращалось к отправителю или же терялось, а зачастую было также чревато возбуждением следствия. Так произошло, когда ссыльные начали тайком, в обход государственных инстанций, направлять посылки на адрес приходского священника иркутской епархии ксендза Швермицкого (бывшего ссыльного 1852 года). В январе 1869 года под нажимом властей Швермицкий обязался передавать такие письма губернским властям. В свою очередь сто семнадцать духовных лиц, живших тогда в Тунке, заставили подписать заявление, что они не станут использовать адрес иркутского священника. Тем временем отсутствие вестей от близких приводило многих ссыльных в отчаяние. «Жажда писем превращается в зависимость, сродни пьянству, – писал ссыльный (имя его установить не удалось) из Тобольска в декабре 1869 года. – Жаждешь, потому что сердце болит, а удовлетворишь жажду – так лекарство хуже болезни. И нет спасения».
«Печальны, чрезвычайно печальны наши ситуация и положение. Кому же под силу предвидеть будущее», – писал летом 1868 года ксендз Миколай Куляшиньский знакомым под Люблнин. «Предо мною – бездна». На страницах дневника он выплескивал свою горечь: «Жизнь моя текла в Тунке монотонно, словно отметки на часах, одна подобна другой. Улыбка природы меня не трогала, дух убит, а тело иной раз голодает. Я влачил свое существование, словно подстреленная птица; вместо жизни – одеревенение, апатия ко всему. Хотел бежать в тайгу, в леса, в пущу, дебри и там поселиться вдали от людей, раз они обо мне позабыли. И ничего больше, тишина да могила в степи – вот и все, что мне осталось – думал я не однажды. – Да! Свершилось, – повторяю я ежедневно. – В такой ностальгии текла моя жизнь. Смерть товарищей заставляла меня проливать слезы».
С таким отчаянием писал ксендз, который занимался интеллектуальной деятельностью, наукой, изучал Тункинскую долину (о чем пойдет речь ниже), у которого были близ Тунки любимые места, где – на лоне природы, часто в роще на берегу реки Ахалик – он отдыхал и набирался душевных сил. Что же говорить о тех, кто был слаб духом, стар, болен или просто мало активен! Таких психически буквально убивало однообразие дней и лет (ведь встречи, торжества и т. д. случались лишь время от времени), ностальгия, туманное, неведомое будущее, зачастую убеждение, что в этой безнадежности пройдет вся оставшаяся жизнь. Постоянно терзавшие многих ксендзов переживания («Какие-то дикие, мрачные мысли, толклись, отгоняя сон, в голове, вились в ней дьявольским вихрем»), страх за оставшихся на родине близких, часто отсутствие известий от них, приводили к психическим срывам, способствовали рецидивам опасных болезней. Согласно записям отца Игнация Климовича, на каторге в Акатуе имел место летальный исход, вызванный тоской, отчаянием и сильным стрессом. 5 апреля 1867 года здесь похоронили после очень короткой болезни 47-летнего отца Прокопа Храневича, капуцина из Жмудской епархии. «Он начал страшно тосковать, – записывал по горячим следам в своем сибирском дневнике отец Климович, – и печалиться, что ничего не знает об оставшейся на родине любимой дочери (Храневич ушел в монастырь, будучи вдовцом) – жива ли? – затем тоска захлестнула его полностью. Около 10 вечера он начал отчаянно рыдать, затем – головная боль, лихорадка и тиф».