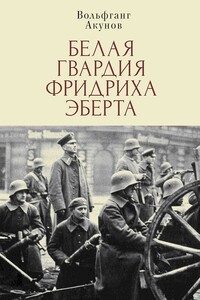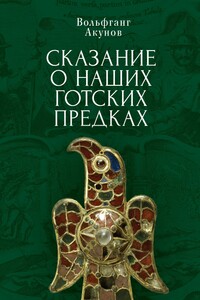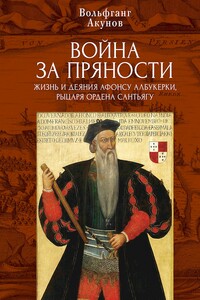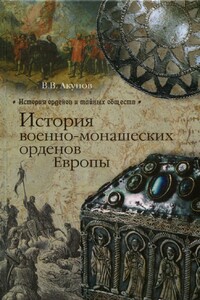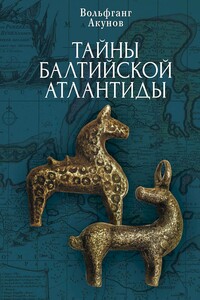Вандалы — оклеветанный народ | страница 9
Значит, названия, по крайней мере, в данном случае — не просто «звук пустой», и потому ученые почти с чрезмерным, не по разуму, усердием, занимались происхождением названия «вандалы», пытаясь, на основании этого этнонима идентифицировать их скандинавскую прародину, на основании отдельных племенных названий перекинуть мост в неизвестную, мифическую, легендарную раннюю историю вандалов. В поисках вандальских корней указывали на обитавших в древности на севере Ютландии «вендиллов» или «вандиллов», но, в первую очередь, на сохранившиеся литературные памятники — например, древний англосаксонский эпос о доблестном герое Беовульфе (чье имя означает буквально «Пчелиный Волк», т. е. «Медведь»), смертельно ранившем на суше, а затем — добившем на дне морском чудовищного Гренделя, ибо именно данное сказание содержит множество слов, имен и названий скандинавского происхождения. Но и в несколько менее древней поэме «Видсит» содержится упоминание о неких «вендлах», тоже, возможно, связанных с этнонимом вандалов, ибо римские авторы, первыми упомянувшие о «вандилиях», или «виндилиях», вне всякого сомнения, не могли просто высосать это название из пальца, как и названия других племен, находившихся с вандальскими племенами в соседских отношениях или даже состоявших с ними в одном культовом сообществе (т. е. совместно с вандалами посещавших общие святые места, святилища, поклоняясь там общим богам).
Более важной, чем проблема происхождения этнонима «вандалы» (или, по-северогермански, «венделы»), представляется, естественно, проблема идентичности, т. е. вопрос, с какими именно племенами, известными нам по археологическим находкам и литературным памятникам, следует отождествлять племенной союз или, если угодно, племенное объединение, которое принято обобщенно именовать «вандалами». Как раз в этом плане после Второй мировой войны возникли большие неясности, связанные, в первую очередь, с результатами деятельности послевоенных польских археологов. Господствующее среди ученых мнение, основанное, в первую очередь, на точке зрения немецких ученых XIX и первой половины XX вв., в общих чертах сводится к тому, что довольно сильные и многочисленные германские племена во II–I вв. до Рождества Христова покинули места своего расселения на Скандинавском полуострове, высадившись, прежде всего в районе дельты Вистулы (нынешней Вислы), но и на других участках южного побережья Балтийского моря. Оттуда они распространились, частью — мирным путем, частью — изгнав или подчинив туземное население в районах Привислинской дуги, по берегам реки Виадра (именуемого ныне по-немецки Одером, по-польски же — Одрой) и, наконец, на всем пространстве между Балтийским морем и в предгорьях, простирающихся от Судет до Карпат.