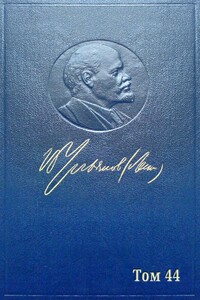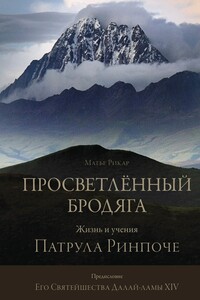Тарковский и я. Дневник пионерки | страница 33
Мы еще вернемся к тому, что на самом деле случилось в Канне и что мне пришлось наблюдать. Но пока я снова и снова вспоминаю, как, возвращаясь совершенно измочаленным после переговоров с Павленком или Ермашом, Тарковский всякий раз в отчаянии восклицал: «Я не могу понять, чего они от меня хотят… Я не понимаю их… У меня полное ощущение, что они говорят со мной на китайском языке…»
Еще раз замечу, что, будучи рыцарем «чистого искусства», он с искренней неприязнью относился ко всякому политическому резонерству с «фигами в кармане», оставаясь, например, совершенно равнодушным к практике театра на Таганке. Даже песни обожаемого мною Высоцкого, и весь ше-стидесятнический кураж авторской песни были совершенно не для него…
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что не столько идеология фильмов Тарковского, которую чиновники от искусства часто до конца не понимали или истолковывали превратно, сколько поэтика его картин раздражала их на итуитивно-физиологическом уровне. Раздражение от непонимания — протовопоказанность, наконец, его поэтики уютно обустрившемуся обыденному сознанию, подозрительному к нему, как к чему-то чужеродному. Отсюда самые общие снобистские обвинения в «натурализме» и «элитарности», последовательно и пожизненно преследовавшие его на родине…
Вспоминается другого рода курьезный случай неудавшейся попытки Тарковского инкогнито протащить на экран свой кадр.
Этот случай произошел в период самого тяжелого, мрачного и длительного простоя Тарковского после «Андрея Рублева», когда положение казалось вовсе безнадежным. Кинорежиссер Александр Гардон, его бывший друг и к тому же муж его сестры Марины, с которым он еще в институте делал вместе курсовую работу, предложил ему сняться в эпизодической роли у себя в фильме «Сергей Лазо» («Молдовафильм»), наверное, чтобы дать, по крайней мере, подработать…
Тем, «кто родился после нас», объясняю, что Сергей Лазо был героем гражданской войны, заживо сожженным белогвардейцами в паровозной топке. Андрей должен был сыграть одного из них, этакого садистика и вырожденца от аристократии.
Но участие в работе такой мощной художественной индивидуальности, как Тарковский, конечно, не могло ограничиться только чисто исполнительской функцией. Совершенно ясно, что А. Гардон, в конце концов, попал под мощное обаяние своего коллеги.