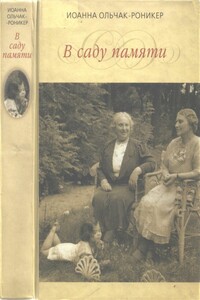Корчак. Опыт биографии | страница 29
22 июля 1878 или 1879 года, в понедельник, а может – во вторник, в солнечный или дождливый день, в семье Цецилии и Юзефа Гольдшмит родился мальчик, которому предстояло стать Янушем Корчаком. Согласно еврейской традиции, родители решили назвать его в честь дедушки. Они верили, что мальчик унаследует от деда ум, таланты и добродетели. Но время было не то: прогрессивные евреи сознавали, что нужно давать детям польские имена, чтобы те не чувствовали себя чужаками в польском обществе. Консерваторы возражали, что подобная перемена ослабит столь важную для рода память о предках. Гольдшмиты выбрали компромиссное решение: в качестве религиозного, традиционного имени выбрали «Герш», для светской жизни – «Генрик». Не обошлось без колебаний. Корчак писал в «Дневнике»: «Отец имел право назвать меня Генриком, так как сам получил имя Юзеф. <…> И все-таки он колебался и оттягивал»{24}.
Имя, как можно догадаться, он получил при обрезании. Касаясь этой темы, которую тактично обходят стороной биографы Корчака, я беспардонно влезаю в интимные сферы жизни. Это потому, что мне хотелось бы представить себе атмосферу в доме Гольдшмитов. Моя мать писала, что там царили «исключительно польские обычаи», что «ассимиляция происходила быстро и при этом основательно». Она упрощала этот сложный процесс, умалчивала о том существенном этапе, когда родители были еще польскими евреями, а дети вырастали уже поляками еврейского происхождения. Ведь это относится и к истории нашей семьи. Моя прабабка, Юлия Клейнманн, вышла за австрийского еврея Густава Горвица, но и после свадьбы по-прежнему жила в Варшаве. Пока был жив Густав, сын венского раввина, в семье строго соблюдались иудейские порядки. Когда он умер, вдова решила, что отныне своих девятерых детей она будет воспитывать на польский манер.
Но разве можно за один день отречься от своей принадлежности? Без сожалений избавиться от еврейского Бога, религиозных привычек, традиционного поведения? Разве такой шаг не оставляет в душе болезненных следов? Моей бабушке Янине, дочери Густава Горвица, было восемь лет, когда умер ее отец, но она хорошо запомнила правила, которых в доме придерживались при жизни отца, субботние обряды и праздничные торжества. Однако в воспоминаниях, написанных после Второй мировой войны, она не посвятила этому ни слова. Она лишь утверждала, вопреки очевидности, что ее семья ничем не отличалась от польских семей. А рассказывая о том, как она еще пансионеркой увлеклась польской литературой, с каким вдохновением декламировала на тайных посиделках польскую патриотическую поэзию, бабушка давала понять, что всегда чувствовала себя прежде всего полькой.