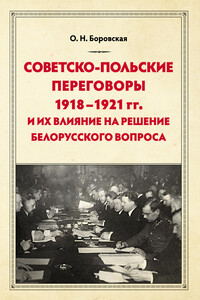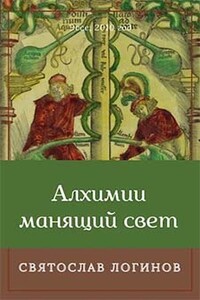Лето: Секреты выживания растений и животных в сезон изобилия | страница 29
Я зачерпнул несколько горстей мертвых и умирающих головастиков и скинул их в аквариум с их живыми сородичами. Головастики немедленно съели дохлых и ослабленных представителей своего вида, после чего буквально за ночь отрастили задние ноги. На следующий день к этому добавились передние лапки, а еще за день у личинок съежились хвосты. Они все еще плавали как головастики, когда были в воде, но стоило им оказаться на суше, и они начинали прыгать как лягушки. Благодаря каннибализму головастики за три дня превратились в лягушат, в то время как другие особи из того же выводка, которых я продолжал держать на гниющих листьях, оставались головастиками еще семь-восемь месяцев спустя. Так что я подозреваю, что к тому времени, когда лужи летом высыхают, некоторые лягушата успевают ускоренно перейти к жизни на суше благодаря тому, что активно поедают сородичей.
Если не более 100 самок поместили в водоем свои кладки по 300–1000 икринок каждая, то исходно в нем оказывается не меньше 50 000 головастиков. Все вместе они воплощают в себе питательные вещества, которые «пасущиеся» головастики за месяц-два сконцентрировали из очень разреженных и часто микроскопических частичек пищи. Головастик превращается в дозу белка, на которой впоследствии его собратья смогут покинуть водоем, когда он станет обсыхать. Если тот же сценарий регулярно повторялся в ходе эволюции, каннибализм мог стать важной частью «стратегии» выживания у данного вида лягушек (как реакция, выработанная в результате естественного отбора).
Главный элемент, вокруг которого строится летний мир лесной лягушки, – это временные водоемы, и жизнедеятельность данных животных почти полностью сформирована так, чтобы извлечь из этого все возможные преимущества. Особые поведенческие механизмы лесных лягушек размывают наши представления о «сотрудничестве» и «конкуренции» или же придают этим понятиям новый смысл.
4. Первые птицы
11 марта 2006 года. Вот-вот начнут возвращаться первые птицы, и я, хорошо поработав пилой, молотком и гвоздями, соорудил девять скворечников. Я развесил их вокруг дома с мыслью о домовом крапивнике (Troglodytes aedon), древесных ласточках, ну и, может быть, лазурных сиалиях (Sialia). И рассчитал верно. К восьми утра на бобровую запруду прилетели первые красноплечие трупиалы: я видел «на посту» четырех птиц, которые кричали свое «унг-ля-ррри» с верхушек кустов и рогоза. Через час они взлетели на холм к нашему дому и сели на кормушку. Прошлым летом они здесь питались подсолнуховыми семечками, которых снаружи даже не видно, а достать можно только через узенькую щель. Сегодня птицы ведут себя так, как будто они знакомы с устройством кормушки, поэтому я полагаю, что некоторые из них возвращаются сюда не первое лето. В следующие несколько недель они станут являться к кормушке ежедневно. Трупиалы часто прилетают небольшими группами: все-таки это стайные птицы, хотя они и рассеиваются, когда летят обратно на запруду. Там они держатся так, чтобы продолжать видеть и слышать друг друга. Сегодня же вернулись и граклы, – я видел, как они втроем кружили над запрудой. Позже один довольно ручной самец прилетел к нашему дому и уселся на большой черемухе, затеняющей фасад. Надеясь, что это может быть Кракл, которого мы спасли в прошлом году из кишевшего клещами гнезда и который стал нашим другом и любимым питомцем детей, я позвал: «Кракл! Кракл!» Птица не улетела. Вместо этого она вытерла клюв о ветку, как будто смутилась или не могла решить, что делать дальше.