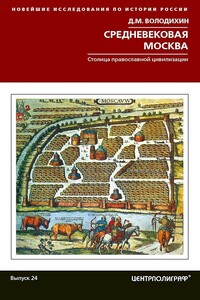От Русской земли к земле Киевской. Становление государственности в Среднем Поднепровье в IX–XII вв. | страница 36
Исходя из имеющихся данных, я могу предположить, что скандинавов, освоившихся в Поднепровье, в указанный период времени мог больше привлекать не маршрут «по Дне» пру в греки», а трансконтинентальный маршрут из Европы до Булгара, Хазарского каганата и Каспия[228]. Вплоть до самого вторжения венгров в Европу в конце IX в. этот маршрут исправно функционировал через Великоморавское государство, Верхнее Повисленье до Среднего Поднепровья и дальше в Хазарию.
Возникшая впоследствии венгерская опасность привела к изменению маршрута в южном направлении, через Прагу. В это же самое время наметилась напряженность и на волжско-каспийском направлении; отголоском этой напряженности могут являться известия о неудачных походах русов на Каспий.
Начало второй волны скандинавской экспансии в Среднее Поднепровье в это же самое время вряд ли можно назвать случайным совпадением. Во всяком случае, такой вывод напрашивается из анализа описаний действий Олега и Игоря. Классический текст ПВЛ сообщает о том, что «[П]оиде Олегъ поимъ воя многи Варяги Чюдь Словѣни Мерю и всѣ Кривичи и приде къ Смоленьску съ Кривичи и прия градъ и посади мужь свои оттуда поиде внизъ и взя Любець и посади мужь свои [и] придоста къ горамъ хъ Киевьскимъ»[229]. Начальный свод излагает указанные события более кратко: «И начаста воевати, и налѣзоста Днѣпрь рѣку и Смолнескъ град И оттолѣ поидоша внизъ по Днѣпру и приидоша къ горам кыевъскым»[230]. Как видно, отсутствует описание перечня Олегова воинства, которое, как и упоминание Любеча, является, по всей видимости, вставкой автора-составителя ПВЛ.
Ценность данного сообщения состоит в указании на ключевую цель всей Олеговой кампании — «и начаста воевати. и налѣзоста Днѣпрь рѣку». Из текста явно и недвусмыс ленно следует, что основной задачей похода являлось установление контроля над днепровской речной магистралью Смоленск, Любеч, Киев — указанные города отражают направление и этапы скандинавской экспансии второй волны. Отдельным вопросом является хронология указанных событий.
В последнее время все более отчетливым становится понимание обстоятельства, что хронология начального летописания, во всяком случае до начала XI в., является результатом работы летописцев рубежа XI–XII вв., когда даты создавались на основе случайной выборки хронологических маркеров из византийских источников[231]. В итоге на пространстве X в. в ПВЛ можно считать достоверными только две даты — это даты договоров Руси с Византией (911 и 944 гг.)