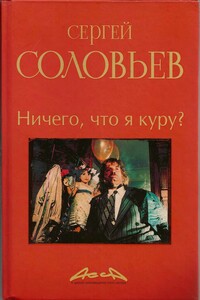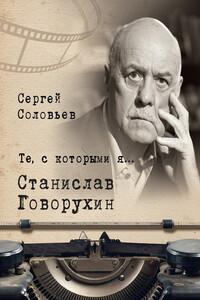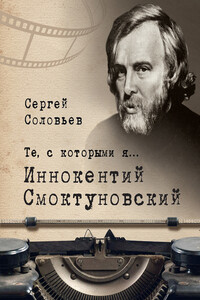Асса и другие произведения этого автора. Книга 1. Начало. То да сё… | страница 68
Так не состоялся наш «Иванов», и все же нет у меня по этому поводу жалости, поскольку по-прежнему считаю эту никем не виденную мою постановку одной из наиболее важных своих работ. В ней я впервые почувствовал радость и свободу профессии — не муку, не подневольный, рабий труд, когда постоянно надо преодолевать и «мордовать» себя, стремясь к чему-то невозможно-недосягаемому, а, напротив, удовольствие от того, что именно страха-то ни перед пьесой, ни перед актерами, ни перед будущим зрителем нет, что постановка твоя словно бы складывается сама по себе — ты только дал первоначальный правильный и энергетически мощный толчок ее движению, а уже дальше она, как тяжело груженный состав, самостоятельно набирает скорость, и тебе уже только надобно за ней решительно поспевать.
Спустя много лет Катя пригласила меня во МХАТ смотреть ефремовского «Иванова», где играла Сарру, а Иванова — Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Настоящий Смоктуновский, а не Валера Рыжаков, по моей указке изображающий Смоктуновского. Вот и свершились вроде бы Катины мечтания. И прославленная сцена, и великий партнер, и серьезная, хорошо и тщательно сделанная постановка. Но все же, честное слово, того тончайшего блеска игры, который был у ненастоящего Смоктуновского-Рыжакова, тех, правда, почти гениальных откровений юной вгиковской Кати-Сарры, того ангельского взмаха крыла, божественного дуновения, все преображающего, и во мхатовском «Иванове», и во мхатовской Кате-Сарре все-таки не было.
Один из выводов, который по этому поводу я для себя не без удовольствия когда-то сделал, превосходно сформулирован в словах Марины Цветаевой об «Анне Карениной»: «Настоящая трагедия Анны — это трагедия женщины, которая получила все, что хотела иметь». Наверное, это правда. Очень все-таки опасно для человека — получить однажды все, что ты хотел иметь…
А тогда во ВГИКе подходило время защиты актерских дипломов. Белокуров методом подсчета ресничек репетировал «Иванова», и репетиции катились к кладбищенскому концу. Но радости это ни мне, ни Кате не доставляло. Кате на диплом показывать было просто нечего.
Я судорожно листал подряд любую литературу, хоть чем-то напоминавшую пьесу, покуда буквально за десять дней до защиты не набрел случайно на стопку машинописных страничек с надписью на титуле: О'Нил. «Луна для пасынков судьбы». Помимо того, что это взаправду была превосходная пьеса, что тай были настоящие отличные роли и для Кати, и для Рыжакова, она была еще и очень «удобная» пьеса. В частности, в ней было очень мало действующих лиц. Я быстро распределил роли между студентами Катиного курса, дал всем по неделе, чтобы без всякой предварительной проработки выучить роли наизусть… В ошалелом своем состоянии я понял, что у меня фактически нет ни копейки на постановку спектакля — О'Нил в дипломных планах мастерской не значился, на постановку его не было запланировано финансирование. К тому же фактически никакого времени на репетиции у меня тоже не было. Все было против меня и против Кати. Но я никак не мог допустить, чтобы Катя, закончив институт, не показала себя достойно. Это уже вроде бы было делом моей личной чести как режиссера, да и что там говорить, и как мужчины, ее мужа. Ну, никак не чьи-то реснички она, по моему разумению, вполне великая актриса, должна была на дипломе считать… Странно, но говорю вам, никаких на этот счет сомнений у меня не возникало и возникнуть не могло. Да, такая же великая, ну как, скажем, обожаемая мной тогда Моника Витти.