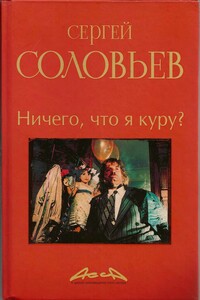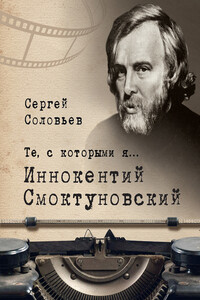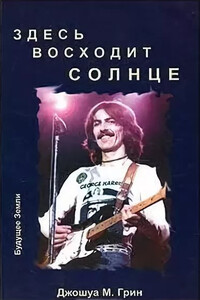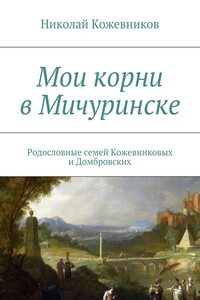Асса и другие произведения этого автора. Книга 1. Начало. То да сё… | страница 16
Первые два года обучения Лева был мне очень дорог еще по одной причине. Я приносил с собой из дома завтраки с сыром, который не любил (то, что я не любил, мама почему-то считала особенно для меня полезным), Леве же тетя Люба нарезала бутерброды с твердокопченой брауншвейгской колбасой. Несмотря на то что Лева, по-моему, сыра тоже не любил, он щедро угощал меня своими бутербродами, уныло сжевывая мои. Лева был очень благородным и совсем невеличественным мальчиком. И выражалось это совсем не только в дележке бутербродов. Проявлялось это во всем.
Эпоха упорядоченного тоталитарного детства рухнула в один день. 5 марта 1953 года в шесть утра меня разбудил отец: «Вставай! Немедленно вставай! Умер Сталин!» Я встал, включил лампочку и почему-то почти сразу от какого-то смертельного ужаса сел писать «рассказ», который к смерти Сталина никакого отношения не имел, но страх, переполнявший меня, в нем отразился. Написав две страницы (впервые, до этого момента никаких «рассказов» я не писал), я прошел через коридор и в утреннем сумраке большой родительской комнаты увидел плачущего отца. Он сидел у стола на венском стуле боком, в белой нижней рубашке, в кальсонах, босиком, и плакал. Таким я не видел его ни разу. Отец обладал такой волей, силой, энергией жизни, и все это вдобавок всегда было скрыто за спокойствием манеры держаться, что представить его вот таким было просто невозможно.
Помню, мы с ним как-то ехали в трамвае — он первый раз повез меня на каток. Был страшный мороз, градусов тридцать, окна трамвая были покрыты коркой льда. Ехали мы довольно долго — с Херсонской на Кировский остров, отец заснул, прислонившись головой к стеклу, а когда приехали, левая половина трамвая отпотела — не только стекло, к которому он прислонился, но весь ряд окон с его стороны. Какое же горячее у него дыхание, подумал я, это же надо обладать такой нечеловеческой энергетической мощностью организма. И то, что вот этот человек сейчас сидел и плакал, было для меня потрясением.
Потом мы пришли в школу и нас с Левой поставили у портрета Сталина, причем сначала велели сходить домой и переодеться — белый верх, черный низ. Мы стояли, подняв руку в салюте, в белых рубашках и красных галстуках, синие от холода, стоять нужно было чуть ли не час — рука отваливалась. Я сцепил зубы и, как мог, старался вытерпеть это невиданное иезуитство преданности и любви.
И, уже стоя там, у этого самого портрета, мы почему-то точно ощущали, что в это утро от всех нас, от целого народа, хилой частью которого в то утро мы тоже, наверное, себя впервые ощутили, уходит целая эпоха, о которой, как ни странно, воспоминания остались чистые и простые.