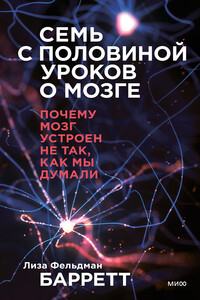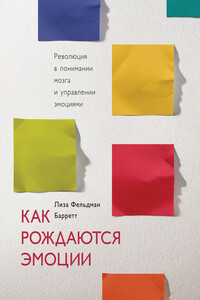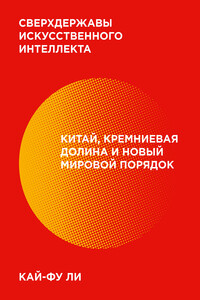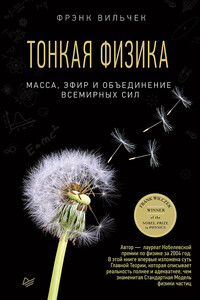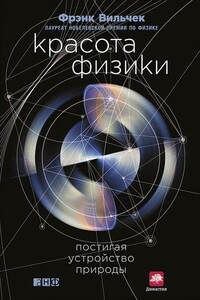Основы реальности. 10 фундаментальных принципов устройства Вселенной | страница 28
О времени можно сказать то же, что и о пространстве: его много как снаружи, так и внутри. Хотя необъятность космического времени подчеркивает нашу незначительность, бездна времени — и внутри нас.
В романе «Создатель звезд» гениальный родоначальник научной фантастики Олаф Стэплдон пишет: «И вся его [человечества] история с ее миграциями, империями, философскими теориями, гордыми науками, социальными революциями, растущим стремлением к единению была не более чем искоркой в жизни звезд»[28]. Римский философ Сенека в сочинении «О скоротечности жизни» высказывает противоположную точку зрения. «Большинство смертных жалуется… на коварство природы, — пишет он. — <…> Жизнь дана нам достаточно долгая, и ее с избытком хватит на свершение величайших дел, если распределить ее с умом»[29].
Как мы увидим, правы оба — и Стэплдон, и Сенека.
Чтобы не погрязнуть в неясностях и бессмыслице, остановимся на минутку, вдохнем поглубже и зададим себе принципиальный вопрос: «Что такое время?» Как философское понятие, время представляется менее осязаемым, чем пространство. Мы не можем свободно в нем перемещаться, не можем даже вернуться в какой-либо выбранный момент. Время, которое прошло, — прошло навсегда. То самое мгновение не поймать: вот оно есть, а вот его нет — и оно никогда не повторится.
Христианский философ Аврелий Августин так сформулировал это свойственное всем чувство замешательства: «Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; но если бы я захотел объяснить кому-либо — нет, я не знаю, что это»[30].
На наш вопрос есть остроумный, но несерьезный ответ: «Время — это то, что не дает всему случиться одновременно». Эти слова часто приписывают Эйнштейну, но на самом деле они принадлежат автору научно-фантастических романов Рэю Каммингсу.
Другой многозначительный ответ гласит: «Время — это то, что измеряется часами». Хотя сначала он кажется столь же несерьезным, зерно правды здесь есть. Эта мысль и станет нашей отправной точкой.
В природе много регулярно повторяющихся явлений. О циклической смене дня и ночи, фазах Луны, временах года и биении сердца знают все по собственному опыту. Например, если в состоянии покоя сравнить пульс двух человек, то (при достаточном числе биений) мы получим примерно равное соотношение. А в каждом лунном цикле — почти одинаковое количество дней.
На первый взгляд цикличность времен года в контексте капризов погоды представляется не столь четкой. Чтобы предсказывать смену сезонов точнее, некоторые цивилизации разработали методику астрономического хронометража. Люди пришли к мысли день за днем следить за движением Солнца на небосводе: где оно восходит, где садится, как высоко поднимается. Подобные изменения гораздо более предсказуемы, чем колебания погоды. Наблюдая за траекторией Солнца, люди смогли гораздо точнее определить такие понятия, как год и времена года, что оказалось очень полезно. Астрономические времена года отсчитываются от точек солнцестояний (зимнего и летнего), отмечающих экстремальные склонения Солнца к северу или югу относительно экватора Земли, и равноденствий (весеннего и осеннего), когда положение Солнца меняется наиболее быстро. В периоды солнцестояния разница между продолжительностью дня и ночи максимальная, тогда как в периоды равноденствия она практически отсутствует. Год — это интервал, проходящий между полными циклами изменений.