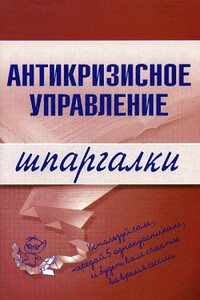Машина правды | страница 43
В ближайшее время нам потребуются законодательные инициативы — база, которая позволит понять, как вписать организационные и управленческие модели на основе блокчейна в рамки традиционных правовых систем. Как нам определить права собственности на цифровой актив, если они сводятся к владению приватным анонимным ключом? Как провести границы юрисдикций, когда блокчейн-реестр распределен между пользователями из разных стран или когда невозможно отследить, какие именно компьютеры глобальной сети исполняют случайно назначенные операции в рамках смарт-контракта? Сторонники этих технологий могут отрицать необходимость новых законов, но совсем вывести их из сферы правового регулирования невозможно. Цифровой мир — не отдельная вселенная; на него, как и на любое поле человеческого взаимодействия, распространяются законы и нормы, которые складывались тысячелетиями.
Анархически настроенные криптоэнтузиасты, которые мечтают жить исключительно по законам самого блокчейна и полностью выйти из-под власти государства, любят цитировать фразу «Код есть закон», брошенную профессором Лоуренсом Лессигом[61]. Впрочем, они склонны вкладывать в нее свой смысл. Лессиг вовсе не имел в виду, что программный код может заменить человеческие законы или что любые споры будет решать машина. Он всего лишь хотел сказать, что код отчасти подобен юридическому кодексу, поскольку регулирует «поведение» вычислительных компонентов. Считать код полноценной альтернативой закону означает сводить последний к чему-то гораздо меньшему, чем он есть в действительности. Будь закон всего лишь сводом инструкций и правил — тогда да, вероятно, мы смогли бы положиться на компьютеры и прописать алгоритмы, которые выполняли бы и регулировали наше взаимодействие в цифровой среде. Но понятие закона намного глубже и шире. На философский вопрос «что есть закон?» можно ответить по-разному, но чем дольше изучаешь это понятие, тем труднее становится отделить закон от юнговского «коллективного бессознательного»: набора представлений о том, как относиться друг к другу, унаследованного нами от предыдущих поколений и понемногу меняющегося на протяжении нашей истории[62]. Столь древнее и сложное явление нельзя свести к программному коду.
Ничто не иллюстрирует это ярче, чем печально известная атака на фонд The DAO в июне 2016 года. DAO расшифровывается как «децентрализованная автономная организация» (ДАО). Выбрав это название, основатели проекта присвоили акроним, который прежде использовался как общее обозначение ряда новых, многообещающих систем автоматического корпоративного менеджмента и был предельным выражением техноанархических идеалов. Этот децентрализованный венчурный фонд основала команда стартапа Slock.it — группа разработчиков смарт-контрактов во главе со Стефаном Туалем, бывшим коммерческим директором Ethereum. Весь проект должен был управляться исключительно автоматикой — без администраторов, совета директоров и менеджеров какого-либо звена. О подобных системах уже давно велись разговоры, однако создатели The DАО первыми рискнули опробовать новый принцип на практике. Платформа должна была позволить инвесторам распределять средства с помощью голосования, — то есть выбирать и отмечать один из предложенных проектов. Предполагалось, что в итоге возникнет новая, более демократичная и эффективная логика инвестирования, чем в традиционных фондах, где интересы руководства и вкладчиков не всегда совпадают.