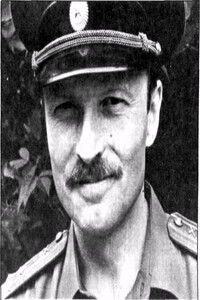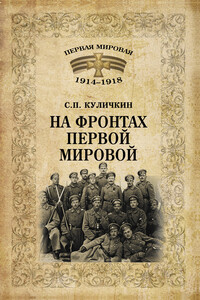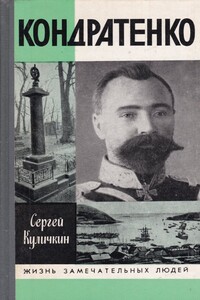Ватутин | страница 73
В то же время существует факт непреложный, что те люди, которые остались, выросли в ходе войны и оказались у руководства армией, именно они и выиграли войну, находясь на тех постах, которые они постепенно заняли. И их право помнить об этом и относиться с известной горячностью и нервозностью к разговорам о том, что все бы пошло по-другому, если бы были живы те, кто погиб в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах.
Мне кажется, что справедливее ставить вопрос в другом аспекте. Неизвестно, как бы воевали Тухачевский или Дыбенко — беру крайние точки, — но не подлежит сомнению, что если бы тридцать седьмого — тридцать восьмого годов не было, и не только в армии, но и в партии, в стране, то мы к сорок первому году были бы несравненно сильней, чем мы были. В том числе и в военном отношении...»
Безусловно, записанные Симоновым рассуждения Конева сугубо субъективны, как субъективен и сам Симонов в своих комментариях, но зерно истины тут есть, и в будущих серьезных исследованиях они имеют право на существование. Действительно, дело ведь не только в тех десяти—пятнадцати крупных военачальниках, но и в десятках тысячах командиров, которые пошли вслед за ними на смерть. Армия же осталась без руководящего состава в той тяжелой атмосфере подозрительности, которая разлагала все и вся, лишала людей инициативы и самостоятельности. Наконец, говоря о жертвах тех лет, нельзя не вспомнить, что многие из них пожали то, что посадили и любовно взращивали. Разве можно забыть о том море крови, которое пролил славный большевик Иона Якир при расказачивании на Дону и Кубани? А сколько невинных душ на совести интеллигентнейшего человека, любителя искусств, скрипичного мастера, атлета и жизнелюба красавца Михаила Тухачевского?! Ведь это он залил кровью мятежный Кронштадт, он отдавал приказ сметать с лица земли артиллерийским огнем вместе с жителями деревни восставшей Тамбовщины. Он, не поведя бровью, уже в тридцатом году расправился с группой военных специалистов старой школы, преподававших в советской академии. А что вытворяли Дыбенко, Смилга, целая плеяда «железных латышей»? Вспомнили ли они об этом, когда их вели в последний путь палачи Ежова и Берии?..
Николай Федорович всю ночь по дороге из Москвы в Киев не спал. Думал о неожиданном назначении, об арестах, не прекращавшихся ни на день. Было отчего растеряться молодому полковнику, только что назначенному на высокую должность. Врагами были объявлены те, с кого он долгие годы брал пример, арестовано все командование академии, более половины преподавателей, десятки его сокурсников, сослуживцев. Верил ли он в их вину? Не верил — свидетельствует Татьяна Романовна. Считал трагической, нелепой ошибкой, чьей-то злой волей, скрывавшей от вождя истинное положение дел. Вера в Сталина оставалась непоколебимой. Ее поддержал и скорый арест и осуждение, как многим тогда казалось, главного виновника всех бед — Н.И. Ежова. Мог ли тогда Ватутин подумать о том, что все это дело рук того, кого боготворила вся страна, что эти «ошибки» будут повторяться еще долгие годы и видные военачальники будут так же исчезать в бериевских подвалах, как и в ежовских? Даже в самые трудные месяцы войны, когда не только командиры, но и каждый солдат, каждая винтовка и штык были нужны, как воздух...