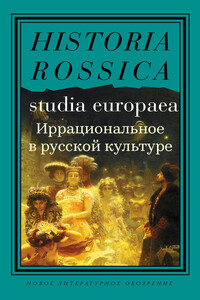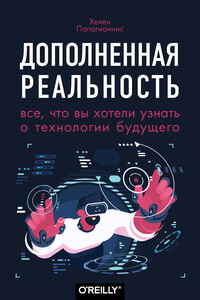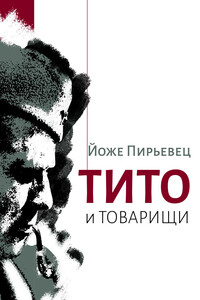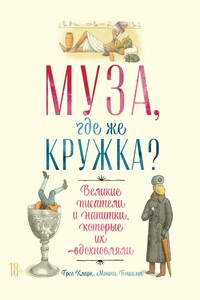Социальное общение и демократия. Ассоциации и гражданское общество в транснациональной перспективе, 1750-1914 | страница 51
Примеры показывают, как между пониманием себя лож в качестве «морального интернационала» и действительным единством и братством масонов разных государств появлялась пропасть в тем большей степени, чем более сближались национальные общества де-факто. Едины масоны были разве что в своем непримиримом антикатолицизме.
Вопрос о том, как осуществлялись масонские принципы в заграничных ложах и какие моральные укоризны и национальные размежевания из этого следовали, стал проблемным только вместе с интернационализацией. Иначе говоря, интернационализация европейских обществ обнаружила частный характер морально-универсальной программы лож в разных национальных государствах.
Особенно драматично это проявилось во время франко-прусской войны. Из достигнутого несмотря ни на что многообразия неформальных контактов и идейной близости лож обеих стран все в один момент было сведено к нулю или превратилось в свою противоположность. Каждая сторона старалась принизить другую в «цивилизационном» отношении. Французские братья рассматривали ведение войны немцами как нравственно пагубные последствия милитаризма и автократического государства, отсталости и варварства. Немецкая сторона возвращала упрек в варварстве французам. Пересечением красной линии общеевропейского цивилизационного сознания для немецких масонов было задействование солдат-африканцев и «нецивилизованная» манера ведения войны. Новое и сбивающее с толку в войне 1870–1871 годов состояло, и не только для многих немецких и французских масонов, в том, что впервые в войне противостояли друг другу две, по их мнению, «цивилизованные» нации со своими ложами – ситуация, которую не допускало ранее эволюционное сознание, верившее в постепенный моральный прогресс.
Фактический универсализм возрастающего экономического и социального переплетения наций друг с другом усилил тягу к национальному размежеванию и привел к политическому давлению на идеальный универсализм, который опирался на нравственную идею совершенствования через социальное общение. По мере того как «человечество как единое связанное друг с другом сообщество перестало быть утопической идеей и сделалось действительным условием для всякого индивида», стали множиться и фиксироваться стереотипы о «других»[177]. Транснациональное распространение общественных объединений и усилившиеся связи их между собой впервые заставили их проводить новые границы, которые могли вступать в противоречие с высокими моральными идеалами.