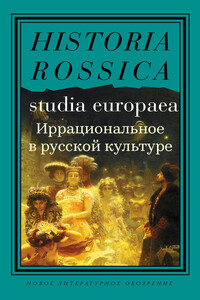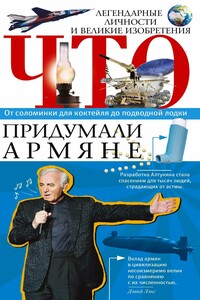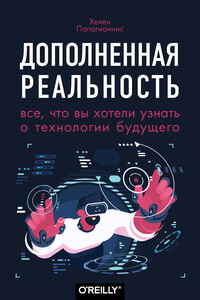Социальное общение и демократия. Ассоциации и гражданское общество в транснациональной перспективе, 1750-1914 | страница 49
Внутри страны они считали своим долгом выступить против тех, кто, по их мнению, был врагом отечества. Если в Германии рабочие гимнастические общества были исключены из «Немецкого гимнастического союза» («Deutsche Turnerschaft»), то республиканский «Союз гимнастических обществ Франции» боролся против католического гимнастического движения. По мере того как «общества социального общения» превращались в национальные, отсылки к нации у ассоциаций, подобных гимнастическим, стали свидетельствовать скорее о внутренних и внешних конфликтах, чем об абстрактном общем благе. Парадоксальным образом универсальность принципа ассоциаций, его история успеха в XIX веке основывалась на этом сочетании нравственных ориентиров и частных интересов. Однако транснациональное распространение общественных объединений, циркуляция идей и практик социального общения вопреки ожиданиям XVIII века и Просвещения не принесли с собой космополитическое нравственное чувство общности и «цивильности» – а, наоборот, обозначили новые социальные и политические пропасти.
Это можно проиллюстрировать на примере вольных каменщиков. В XIX веке ложи видели в себе «школу гражданских добродетелей» в духе Токвиля.
Франкмасонство, – говорилось, например, в южнонемецком масонском листке 1859 года, – должно способствовать тому, чего «не может достичь ни государство, ни церковь; через него должны умножаться и распространяться внутренняя добродетель и добропорядочность». Гражданское общество не может в приказном порядке предписать внутреннюю добродетель, «не сделавшись судией убеждений и мыслей, что было бы равносильно жесточайшей тирании, прямо противоположно истинной конечной цели человеческого общества». Поэтому необходимы социальные пространства, подобные ложам, в которых можно работать над «внутренней нравственностью» отдельной личности, «способствовать добру, которое не может принести гражданское общество; поддерживать мудрость, свободу и добродетель в их самом незамутненном виде; устранять разделения и раздоры, к которым приводят интересы государств, религий, сословий, всех случайных отношений и вновь объединить людей одними общими узами, под знаком единого закона разума. По этому закону мы все только люди – и ничего больше[173].
То, что ложи в XIX веке, в эпоху социального общения, продолжали придерживаться своего тайного культа, объясняется этим нравственно-политическим самосознанием. В демократизирующемся обществе они хотели сохранить пространство, свободное от конфликтов общества, в котором можно было жить добродетелью. Поэтому масонские ложи и другие тайные общества не исчезли, вопреки предположениям Токвиля, в эпоху после Просвещения, но завоевали прежде всего во Франции и немецких государствах 1860-х годов новую популярность и политический вес как средоточие современного эпохе республиканизма и либерализма