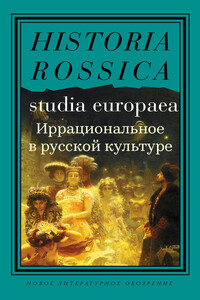Социальное общение и демократия. Ассоциации и гражданское общество в транснациональной перспективе, 1750-1914 | страница 41
В континентальной Европе процесс либерализации в государствах, которые преобразовывались в национальные общества (или, в случае Австро-Венгрии, в несколько национальных обществ), был связан и с невиданным до того ростом числа ассоциаций. Так, с 1860 года активная общественная жизнь возникла и в Неаполе, тогда как до того общественные объединения основывались только в североитальянских городах – например, в Милане[139]. Как и в случае городского общества французской провинции, недостаточное внимание историков локального бюргерского общества в немецких городах до сих пор привлекал тот факт, что распространение ассоциаций приобрело взрывной характер лишь после 1860 года[140]. Тогда как для современников, в особенности представителей ранних социальных наук, новое выдающееся значение общественных объединений было очевидным. Лоренц фон Штайн писал в 1867 году, что «гигантское развитие ассоциаций составляет специфическую черту нашего времени». Отто фон Гирке год спустя увидел в ассоциациях «истинно положительный, конструктивный принцип новой эпохи»[141]. Германия наряду с Соединенными Штатами стала страной общественных объединений par excellence.
Количественный взрывной рост ассоциаций сопровождался демократизацией их социального состава. Конечно, многие буржуазные союзы продолжали опасливо придерживаться принципа социальной эксклюзивности. Но их претензии на социальную и моральную гегемонию в рамках локального «бесклассового гражданского общества» в Англии, Франции или немецких государствах теперь встречали конкурентов: не в последнюю очередь в лице новых типов общественных объединений – таких, как Клуб рабочих (Working Men‘s Club), Народный кружок (Cercle populaire) или Общество самообразования рабочих (Arbeiterbildungsverein)[142]. Они все более освобождались из-под опеки либералов. Рабочие и ремесленники устанавливали контроль над ассоциациями, в большинстве своем основанными и подконтрольными влиятельным буржуа для морального совершенствования «рабочих классов»; они демократизировали эти ассоциации и основывали новые. За короткий срок с 1860 по 1864 год только в Германии было создано 225 обществ самообразования рабочих