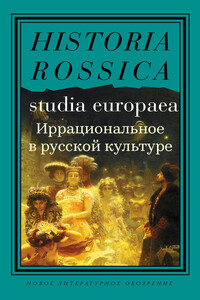Социальное общение и демократия. Ассоциации и гражданское общество в транснациональной перспективе, 1750-1914 | страница 32
Как указывалось, ассоциации были транснациональным феноменом. Однако большинство из этих объединений носили локальный характер, и лишь некоторые – как масонские ложи уже в XVIII веке – конституировались в национальном или наднациональном масштабе. За рамки локального гражданского общества выходили некоторые объединения, имевшие гуманитарно-политические задачи – например, уничтожение рабства. С риском некоторого анахронизма можно увидеть в них предшественников нынешних связанных в глобальные сети неправительственных организаций (НПО). Известным примером движения ассоциаций, выходившего за локальные рамки, стал филэллинизм – поддержка освободительного движения греков против Османской империи в 1820-х годах. Призыв к подписке, распространявшийся в Бостоне в 1823 году, очерчивал это общее дискурсивное пространство: «В Одессе и Триесте, в Санкт-Петербурге, во всех значительных городах Германии, в Голландии, Франции и Швейцарии и в Англии были созданы общества, чтобы помочь преодолеть это пугающее по своим масштабам человеческое горе»[104]. Филэллинское движение трактовалось по-разному в зависимости от различных традиций национальных историографий. Может создаться ложное представление, что историки имели дело с разными, никак не связанными друг с другом движениями:
Разброс оценок простирается от характеристики английского филэллинизма как движения за реформы, мотивированного внутриполитическими причинами, до отнесения американского и французского движения в разряд безобидных – то есть неполитических – благотворительных предприятий. Между этими оценками находится трактовка немецких греческих обществ как средства борьбы с политическим угнетением и швейцарских – как средства поддержки собственного национального строительства[105].
Транснациональная сравнительная перспектива переосмысливает и другие общие места национальных исторических традиций. Нет сомнения, что общественные объединения начала XIX века в Западной Европе были прежде всего местом развлечения состоятельных и образованных средних классов. Тем не менее идею и социальную практику нельзя связывать только с одним классом. Существовали свои народные и аристократические традиции социального общения, которые продолжали жить и в начале XIX века, сливаясь с идеей ассоциаций. Если отойти от представления социальной истории о тесной связи между развивающейся буржуазией как классом и либерализмом как ее идеологией эмансипации, станет очевидно, что в обществах, где «буржуазия» была представлена слабо (например, в дворянских и интеллигентских кругах), тем не менее циркулировали либеральные идеи и практики – прежде всего идея нравственного совершенствования в общественном обхождении с другими