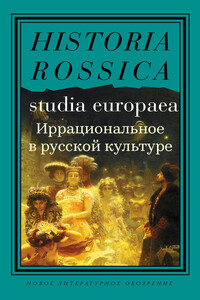Социальное общение и демократия. Ассоциации и гражданское общество в транснациональной перспективе, 1750-1914 | страница 27
Здесь вокруг человека люди в различных жизненных ситуациях, разных убеждений и профессий, перед ним объект, достойный его чувств, потом вы видите человека каков он есть и можете изучить его, когда вам будет удобно. Разделяет ли он чувства и интересы окружающих его? Поступает ли он здесь, когда почти все взгляды отвлечены от него, заинтересованно и энергично? Забыл ли он о касте, к которой свет произвольно отнес людей, окружающих его? Относится ли он к ним с братскими чувствами и уважает ли в них человека – не бедных или богатых, но людей, которые живут по тем же универсальным принципам, что и он, и чьи сердца отзываются на те же сигналы, что и его собственное?[90]
Представления о социальной гармонии, скрывавшиеся за таким бесклассовым братством, нередко противоречили эксклюзивному характеру многих из этих объединений и обществ. Однако если искать причины расцвета ассоциаций с 1820-х годов, важным мотивом была вера современников в идеал «бесклассового гражданского общества», которое рождалось в ассоциациях, чтобы противостоять ожидавшимся социальным и нравственным угрозам возникавших обществ классовых.
Сходным образом, что на первый взгляд кажется удивительным, дело обстояло во Франции и немецких землях[91]. Не только американское, но и французское и немецкое локальное буржуазное общество организовалось с 1820-х по 1840-е годы в тесно связанную друг с другом сеть общественных объединений. Этот факт особенно удивителен для Франции, поскольку историческая наука долгое время разделяла точку зрения Токвиля о том, что послереволюционное государство подавляло ассоциации. Почти столетие во Франции действовало закрепленное в Кодексе Наполеона в 1810 году законодательство об общественных объединениях, которое урезало свободы ассоциаций и подчиняло их государственному контролю, если количество членов в них превышало двадцать человек. Поэтому исследования концентрировались скорее на неформальной общественности и семье.
Однако если сместить фокус с центра страны, Парижа, на локальные общества в провинции, можно оценить роль общественных объединений для французского общества 1820–1830-х годов. В маленьких городках – например, Лон-ле-Сонье, Безансоне или Мюлузе, граничивших с Швейцарией и юго-западом Германии, неполитические общественные объединения и кружки («надо входить в круг „лучших“)», писал Флобер в своем сатирическом «Лексиконе прописных истин») играли роль, схожую с тем, что было по ту сторону границы