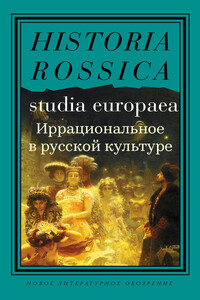Социальное общение и демократия. Ассоциации и гражданское общество в транснациональной перспективе, 1750-1914 | страница 20
Во Франции уже с начала 1770-х годов, основания «Великого Востока Франции», ложи стали объектом большей централизации и реформ «сверху». После 1789 года большинство обществ, как и других форм ассоциаций Просвещения, было закрыто. Декларация прав человека 1789 года не содержит права на свободные союзы. Между государством и индивидом не должно было быть промежуточных сил. Разрешались лишь новые политические якобинские клубы. Через них организационную структуру получил демократический радикализм[61]. В новой конституции 1795 года были запрещены и политические клубы, которым огульно был вменен в вину революционный террор. С завершением революции под государственным надзором Бонапарта ложи снова были разрешены – как и в России (хотя здесь лишь на два десятилетия). В Пруссии с введением Всеобщего земельного уложения (ALR) ложи также были сильнее привязаны к государству. На них, как и на прочие ассоциации, смотрели с подозрением, при том что немалая часть чиновников, занятых реформами, сами были членами братских лож.
Новому социальному общению и ассоциациям – а особенно масонским ложам – в континентальной Европе задним числом вменяли в вину республиканско-демократические идеи и их практическое осуществление в политике, добродетельный террор Французской революции. Такая прямая связь, в которую позже поверили и многие историки, игнорирует, как было показано выше, самосознание и социальные практики «общества социального общения»[62]. Поиск основ современной демократии или даже тоталитаризма XX века в общественности эпохи Просвещения «определенно является историографической западней, а их идейная и социальная монолитность – проекцией ex post»[63]. Ложи, кружки чтения, музеи, ученые общества и академии были не только в социальном, но и в политическом смысле местом компромисса, причем разного вида и жанра в разных странах Европы. Разум и добродетель были тут своими в той же степени, как оккультизм и аристократические развлечения. Эти общества проводили новые границы исключительности: нередко это касалось женщин, всегда – социальных низов, «простого народа». Общественные объединения Старого режима, констатирует Жерар Гайо, «не были школами равенства и демократии, и точно также они не были лабораториями, в которых воспитывались будущие граждане»[64].
Такой точке зрения в новой исследовательской литературе, подчеркнуто заостренной на контекстуализации просветительского социального общения в современной ему эпохе, противостоит другая, которая воспринимает социальное общение в качестве однозначно модерного феномена рождающегося гражданского общества/civil society. Согласно ей, несмотря на свою социальную эксклюзивность, не только масонские ложи, но и, например, кабинеты или общества чтения можно рассматривать в качестве социального пространства внутри государства Старого режима. В нем в игровой форме упражнялись в демократических практиках (создание уставов, выборы членов, совещания о приобретении новых книг) – таким образом, «Просвещение можно было прожить». Европейские масонские ложи, продолжает далее Маргарет К. Джейкоб, «транслировали и воспроизводили текстуру Просвещения, переводили всю культурную лексику ее членов на язык коллективного общего опыта – гражданского и поэтому политического. Вместо того чтобы считать, что Просвещение представляет политика Вольтера, Гиббона или даже Руссо, или, еще хуже, отказывать ему вообще в политическом измерении, с той же степенью продуктивности в поисках нарождающейся политической культуры модерна мы могли бы взглянуть на масонские ложи»