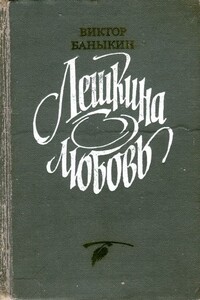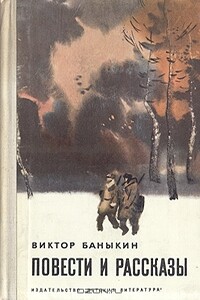Ранняя осень | страница 54
— Садись, соколик!
Обращаясь к неожиданному гостю, человек в гимнастерке проговорил все с той же неизлечимой простудной хрипцой:
— Эко и въедливая лепетунья, скажу тебе! Пилит и пилит! От своей пилы сбежал, а тут — нате — новая навязалась! А того не уразумеет: спешу товаром обзавестись к Ярославлю-батюшке. Глядишь, и разживусь грошиками!
— Какой от тебя, шалопутный, прок? Ежели и заработаешь, так до единой денежки пропьешь! — с укоризной в голосе промолвила подопечная Гордея. — Ох, уж пьяниц этих развелось! И мору на них нету! Глянь, соколик, на верхотуру: экие молодцы храпака закатывают. От самой Белокаменной… нальют шары и сызнова на боковую! — Покачала головой. — Без гулянок по теперешному времени ни свадьбы, ни похороны не обходятся. И в армию ежели провожают новобранца — опять всем селом пьют до потери сознательности!
— Не журись, суетная карга! — снова простуженно загудел незлобивый старик. Кивая художнику, прибавил: — Учись, борода, может, пригодится, случаем, мое рукомесло. Жисть, она что шкатулка с сюрпризами!
На диване, позади старика, возвышалась внушительная горка воздушных шаров. Прикоснись к ним пальцем, и они, мнилось, взлетят все к потолку, загадочно гукая.
Зачарованно, словно он внезапно перенесся в дале- [пропущена строка] пальцы мастера, точно корневища кустарника, но такие на диво гибкие, колдующие над однообразно тусклыми шарами, превращавшимися под его кистями в празднично-нарядные, непохожие друг на друга, пасхальные яички из волшебного царства.
Костлявое, уныло-серое лицо старика с ознобно-стылым взглядом сейчас совершенно преобразилось: смягчилось, подобрело.
«Красивым, может, и не был в молодости, а девушкам, поди ж, нравился!» — подумал художник про самобытного народного умельца.
И как бы угадывая мысли Гордея, старик в неполный голос — точно для себя — сказал:
— Из-за нее, Серафимы, и жисть моя круто под откос затарахтела. Это когда с войны инвалидом в поселок заявился. Думал-кумекал: ждет не дождется своего Мишку, ведь по доброй волюшке сходились, а она… вдругорядь замуж выскочила. И на порог дома не пустила.
— Чай, другую бабу завел бы. Опосля войны — и вдовицы и молодухи — косяками паслись! — сказала старая, все это время вязавшая из жгуче-черной поярковой шерсти носок. — Не все бессердечные, встречались, поди, и душевные!
— Сходился, — мотнул головой мастер. — Да обман все, да разные злострадания преследовали меня. Одной избу новую поставил, разукрасил ее узорными наличниками и карнизами. Не изба — терем боярский! А вернулся из армии сынок… ее, от первого мужа, и показал мне от ворот поворот! «Кому, — заявил, — он нужен, дармоед безногий?» Третья же баба… я за рюмашку, а она — за стакан. Видно, на роду у меня написано: под забором околевать.