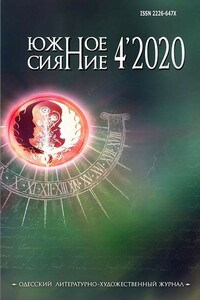Избранный | страница 45
— Не знаю, чего ты плачешь, — сказала миссис Штейнберг. — Ты же только этого и ждал, разве нет?
— Прикуси свой длинный язык, — огрызнулся мистер Штейнберг. — Плачь, плачь, — продолжал он, — тебе есть о чем поплакать.
Из прихожей донеслись медленные шаги, хлопнула входная дверь. Они впились друг в друга взглядом; скорее всего, в голове у обоих мелькнул один и тот же вопрос: что, кроме трупа, можно украсть из старухиной комнаты.
Они бросились в спальню, почтительно помедлив у двери, на случай если почтение еще было уместно. Потом тихонько вошли. Старуха, что неудивительно, лежала, как оставил ее мистер Штейнберг; оба с порога оглядели комнату, отыскивая причину поспешного ухода Берти. И она тут же обнаружилась — точнее сказать, не обнаружилась: оба сразу ее заметили. Широкую белую обесколеченность на безымянном пальце старухи.
— Когда я уходил, оно было на месте, — прошептал мистер Штейнберг, торопясь оградить себя от подозрений.
— Кто же еще, кто же еще? — воскликнула миссис Штейнберг, не обращая внимания на спутника. — Кто же еще, кто же еще, кроме Берти.
Они приблизились к телу, и мистер Штейнберг с опрометчивостью, простительной почти самому близкому родственнику, приподнял оголенный старухин палец. Кольца действительно не было, как не было его ни в складках одеяла, ни под подушкой, ни где-либо возле кровати. Оно исчезло; совокупность старухиного богатства, наследство, доставшееся ей от мужа, его скудные акции, ее пенсия, ее мебель, ее серебро — всё это заключалось в гигантском бриллианте с оправой из золотой амальгамы, так надменно торчавшем на ее безымянном пальце. «Погромные деньги», как она его называла, потому что его всегда можно было унести с собой и оно везде представляло ценность. И вот теперь оно исчезло; скорее всего, его переплавят в звонкие монеты, и те утекут у Берти сквозь пальцы.
Миссис Штейнберг обуял гнев. Она вернет кольцо или хотя бы его стоимость, «если уж ничего другого не остается», выкрикнула она.
— Бедная мамочка, — шептала миссис Штейнберг, хотя той ее жалость уж точно не требовалась, однако же оправдывала дикую ненависть к брату.
И вот, когда старую даму достойно похоронили, причем Берти все похороны и всю шиву твердил, что невиновен, дело решили передать в суд, а вести его поручили Норману, сыну рабби Цвека, настоящему гению.
В зале суда было людно. Рабби Цвек сидел в глубине; его снедала тревога. Исход дела не особо его заботил. С таким досье, как у Берти, было заранее ясно, что его признают виновным, и дальнейшая его судьба рабби Цвека не волновала. Он страшился за Нормана и его выступление. Сидевшая рядом Белла разделяла его страх, потому что в ту пору, два года назад, о пристрастии Нормана знали только они. И отговаривали его браться за дело, перебрали массу причин, по которым ему не следует впутываться в эту грязную историю. Они понимали, что его карьера в юриспруденции кончена, однако он не желал с этим смириться. Вы меня травите, все вы, говорил он, вы унижаете мое достоинство, вы все сошли с ума.