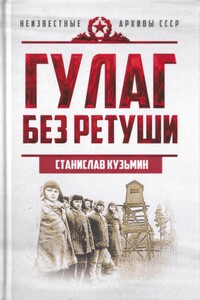Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции | страница 23
Понятие «литераторов» меняло свой характер постольку, поскольку менялась литература. В эпоху Просвещения определилась «литературность» общественной миссии интеллектуальной элиты во Франции. Печатное слово приобретало новое символическое значение. Французский гений стал воплощать писатель и газетчик, для которого появляется новое слово журналист. В этом образе моральная философия, цивилизация и литература во Франции составляли одно, как у классических образцов – Вольтера, а впоследствии Гюго или Золя. Место литераторов и философов в национальном самосознании и сейчас наглядно видно всякому посетителю парижского Пантеона: для сравнения, в советском случае, если не считать пописывающих партийцев вроде наркома А. В. Луначарского, из профессиональных литераторов у Кремлёвской стены покоится только один – американский журналист Джон Рид.
Просвещение заложило основы, окончательные формы складываются под влиянием романтизма. Le sacre de l’écrivain, «жречество» или «священнослужение писателя», как назвал его филолог Поль Бенишу, стало во Франции c XVIII века выражением универсальной миссии образованного человека. «Литература – это выражение общества»: цитата философа и политика Луи де Бональда 1806 года канонична и у нас. И в этом Россия (как и Польша) следуют за Францией, а не за Германией. Ученость, университеты никогда не составляли у нас духовный центр интеллигенции, зато прежде гоголевской шинели наша литература вышла из парижского камзола XVIII и фрака XIX века. Отсюда не только стиль и лексикон. Отсюда, что важнее, миссионерство, которое до сих пор, и не только нами, принимается за специфику «святой русской литературы» (Томас Манн). Соединение человека пера с философом делает его духовным учителем. Собственно философия как таковая никогда не была нашей сильной стороной. И если метафизическую философию, богословие мы заменяли до Петра «богословием в красках» иконы, то философия Нового времени в наиболее совершенном русском варианте представлена в художественном слове литературы.
Неслучайно так близка к характеристике, которую дал русской интеллигенции Николай Бердяев, сравнив ее с монашеским орденом или сектой, цитата историка Ипполита Тэна о французских людях пера XVIII века: «Тот же порыв веры, надежды и энтузиазма, тот же дух пропаганды и та же тяга к господству, те же жестокость и нетерпимость, то же честолюбивое стремление переделать человека и всю человеческую историю по заранее заданному образцу. Новая доктрина имела своих отцов церкви, свои догмы, свой катехизис для народа, своих фанатиков, инквизиторов и мучеников» (цитирую перевод В. А. Мильчиной).