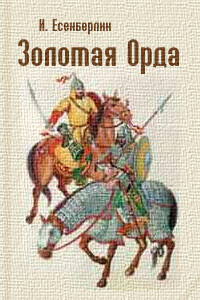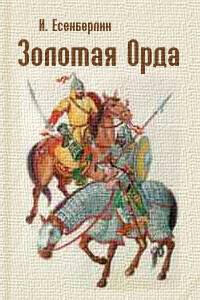Мангыстауский фронт | страница 2
Но лейтенант, на которого поглядывали и джигиты, и их родные, хмуро разговаривал с председателем аулсовета, негромко задавая какие-то вопросы, от которых председатель весь взмок, а команды «Трогай!» все не давал.
Последние минуты прощания — самые тягостные. Халелбек растерянно смотрел на близких, не зная, что сказать. Из арбы высовывалась его голова да еще корджун, в который мать натолкала самое вкусное, что только нашлось в доме: толстые лепешки — нан и тонкие — шорек; вяленое конское мясо, копченую баранью лопатку, сушеную дыню, хивинский изюм… Были в корджуне, конечно, масло, сухой творог — курт, баурсаки… Снеди столь ко, что хватило бы накормить не одного Халелбека. Мать сумела втиснуть и торсучок с чалом[1], хотя казалось, что в корджун не влезет даже иголка. Лежали в дорожном ковровом мешке чистые рубахи: одна новая и две старенькие, аккуратно зашитые матерью; три пары носков — двойной вязки, из шерсти овечьей, и одинарной — из шерсти молоденькой верблюдицы; были в корджуне нож, кружка, соль, ложка, на самом дне лежал треугольный мешочек на красном витом шнурке. В мешочке была заговоренная знахарем — баксы — травка и еще что-то, о чем знала только мать, наглухо зашивавшая тумар — амулет. Тумар, защищавший их род, казахов-адаевцев, в бою, теперь должен был сберечь его, Халелбека, от гитлеровских танков, самолетов и пушек. Мать просила обязательно повесить тумар на грудь, и сын, чтобы не огорчать ее, пообещал. Тумар хранился в корджуне, дожидаясь своего часа, но проверить его чудесные свойства так и не удалось: пропал на формировке в Сызрани вместе с рубахами, носками и самим ковровым корджуном. И все-таки было, было что-то в той зеленой тряпице, потому что запах травки, лежавшей в корджуне, помнился Халелбеку в полях под Москвой, где остро пахло сопревшей картофельной ботвой, вымокшим неубранным сеном и чисто, свежо, как арбузом, — первым зернистым снегом. Помнился и на волжском откосе в Сталинграде, где клочок сожженного берега дышал гарью, трупным смрадом и протухшей водой. И лишь в бакинском госпитале, куда его привезли без памяти, тот волнующий, милый аромат травы пропал: смерть ли, дохнувшая Халелбеку в лицо, уволокла его с собой, или просто стойкий госпитальный дух — смесь лекарств, хлорки, окровавленных бинтов, больной нечистоты, гниющей плоти и еще чего-то неведомого, нечеловеческого — перебил запах степной травки.
После госпиталя Халелбек был списан вчистую и стал пробираться к дому. Как назло, Каспий бушевал, через море шли только мощные суда, связанные регулярными рейсами с Астраханью и Красноводском, а в Форт-Шевченко оказии не было. Скоро Халелбек проел продаттестат и подкармливался у рыбаков, помогая выбирать из сетей рыбу: больше он по слабости ни на что не был годен.