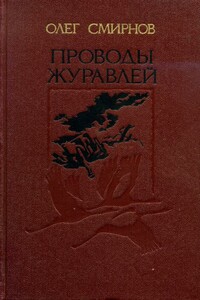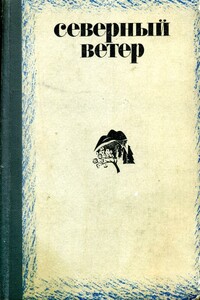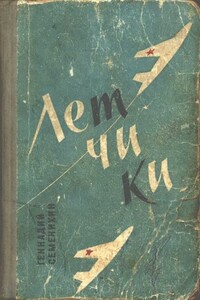Остаток дней | страница 52
С чего же начнем? Мирошников раскрыл папку, старенькую, невзрачную. Чертежи, описание каких-то машин, наверное, что-то по проходке тоннелей, здесь Вадим Александрович профан, это следует показать профессору Синицыну или еще кому-нибудь. Схожие чертежи и в двух других тонких, сереньких, с оборванными тесемками папках. Будто варианты одного и того же. В четвертой — оплаченные счета за свет, газ, телефон. Это неинтересно да и не нужно никому. Новые жильцы сами будут за все платить, отец свое уже отплатил. А кто они, новые жильцы? Старые либо молодые, хорошие либо скверные? Какие б ни были, видимо, радуются. Еще бы! Дождались очереди, въедут в трехкомнатную квартиру какого-то профессора, которого хватил удар. А тот профессор, между прочим, мой отец и прожил в этой квартире долгие-долгие годы…
И что осталось от него? Эти невзрачные папки, пожелтевшие от времени письма и тетради. И горсть пепла в фарфоровой урне, которую ему вручат через две-три недели. Почему так тянуть? И что он с ней будет делать, если у отца нет прописки на кладбище? Две жены похоронены, но местечка может не быть, ныне тесно на кладбищах. А будет ли прописка на кладбище, будет ли местечко для него самого, для Маши, для Витюши? Ведь при жизни об этом никто не думает. Помрешь — и будешь вроде беспризорного, вроде бездомного. Мирошникову стало жаль не только умершего отца, но и живых — жену, сына, себя, — и он заплакал. Беззвучно плакал и радовался: слезы облегчают, побольше поплачешь — побыстрей избудешь горе.
Но он вскоре перестал плакать, утерся рукавом. Подумал: «Вообще-то это не мужское занятие — слезить». Мирошников высморкался, умылся. Холодная вода освежила, успокоила. Правильно, не мужское. Как бы ни пришлось тяжко — зажмись, не поддавайся слабости.
Когда они, подсуетившись, опередив события, ездили (расщедрились, взяли такси) на квартиру отца и осматривали вещи, мебель, решали, как распорядиться, его подмывало всплакнуть: в горле першило, в носу щекотало. Однако он сдержался, лишь зубы стискивал да бледен был, наверное. Потому что Маша сказала: «На тебе лица нет». Она и сама была бледна, словно бы испугана. Или растеряна. Еще бы — при жизни свекра (словцо-то какое!) ни разу здесь не побывала, после смерти пожаловала. И то, когда отца уже сожгли, так и срывается с языка — заживо.
А чертежи надо немедля показать Петру Филимоновичу Синицыну, он к отцу расположен, — может, важное изобретение, отец был в своей науке не последним. Может, сконструировал что-то для проходки этих самых тоннелей, голова у него была светлая. Я ничего в этих машинах не смыслю, знаю одно — их мы не экспортируем.