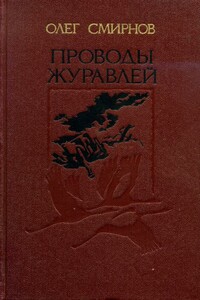Остаток дней | страница 120
— Это он умеет. С утра до вечера и с вечера до утра, — проворчала Лидия Ильинична.
— Шалопай и тунеядец, — проворчал и Ермилов. — А ведь у нас есть закон о тунеядстве. Но закон-то подзабыли…
— Мы много чего подзабыли.
— Правильно, мать. А беспамятные набивают себе лишние шишки… Машка, шевелись быстрей, помогай матери собирать завтрак. Не садились, вас ждали…
— Благодарим за чуткость, — сказала Маша. — Оправдаем доверие.
— Обрат пошел! — крикнул через загородку Мирошников.
— Видишь, отец, уже оправдываем!
Обрат — о, это словцо немало весило в дачном бытии! Оно обозначало: нагревшаяся в котле вода прошла по всему ходу труб и батарей и вернулась обратно в котел, стало быть, нигде система не промерзла, нигде нет воздушных пробок, тепло на даче обеспечено. Обрат вызывал единодушное успокоение, а у Мирошникова еще ассоциировался и со свободными автобусами, трамваями, троллейбусами, когда при виде их так и хочется сесть и поехать, хотя тебе никуда не надо.
Он сноровисто разжигал сухие, припасенные заранее дровишки, потом подкладывал поленья побольше, а потом засыпал два ведра торфяных брикетов, дававших сильный жар. И вот — обрат, прекрасно, прекрасно. Мирошников сидел на маленькой низенькой скамеечке, слушал, как переговариваются женщины («Поставила Витеньке градусник, забыла сбросить, вынимаю: тридцать шесть и четыре, в другой раз ставлю, — опять тридцать шесть и четыре, оказалось, градусник испорчен, поставила другой: тридцать семь и пять», — это Маша. «Надеюсь, в школу ты его не пустила? Тут важно пересидеть простуду в домашних условиях», — это Лидия Ильинична), потом с хрипотцой покашливает Николай Евдокимович, шумно возятся Витек и Грей, слушал, как потрескивают дрова, гудят быстро сгорающие брикеты, побулькивает в котле закипающая вода, — и думал: это быт, это внешнее, но за этим кроется сама жизнь во всей ее глубине и неповторимости. Так и с ним: что-то он делает обыденное, незначительное, житейское, а под коркой обыденности, в глубинах, зреют какие-то новые, необыкновенные мысли и чувства. Созреют ли? Или же засохнут, так и не пробьются наружу, не поднимутся из сумеречных глубин? Чужая душа — потемки? А своя?
Иногда он открывал топку, подбрасывал брикетов, смотрел, как пляшут языки бушующего пламени, и вспоминал прощание с отцом в крематории. И все вспоминалось, что было в те дни: звонок профессора Синицына, известивший о кончине отца, и как он ждал в квартире Аделаиды Прокофьевны, и как гроб с телом ставили на попа в лифте, и как отец глядел из гроба на тех, кто подходил к нему, и как устраивали поминки, и как готовился стать наследником. Наследник. Что он наследует отцовского, кроме денег и вещей? Что из его дел, позиции, борьбы, побед и поражений? На это сразу не ответишь, это требует осмысления. Было бы желание — осмыслишь. А не будет его — бросишь дневники и письма в огонь, в Москве такое не сделаешь, негде, здесь же, на даче, вполне можно. Но ты ж решил сохранить их, значит, надеешься что-то всерьез понять, извлечь уроки из отцовской жизни? Может быть, может быть. Кто знает…