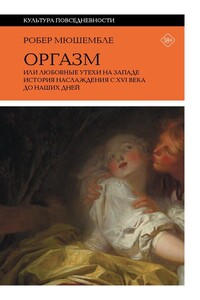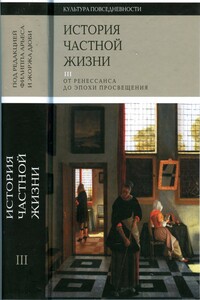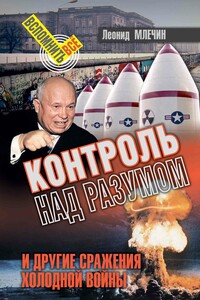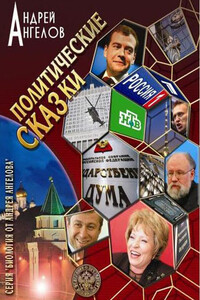Чахотка. Другая история немецкого общества | страница 27
Неслучайно повышение символического статуса чахотки совпадает с периодом, когда буржуа открывает и познает свою индивидуальность и с ликованием снова и снова ее утверждает>[145]. Он хочет узнать самого себя в своей уникальности и особости. Он погружается в себя, исследует самого себя и свой внутренний мир, пишет дневники, письма, в которых открывает свое сердце, мемуары, эти сказания о героях повседневности. Любовь захватывает его, как нечто исключительное, любимому человеку признается он в своих страстях и слабостях. Он читает психологические романы об индивидууме с его опытом и чувствами, которые образуют целый мир. Он горд своим образованием и вкусом. Весь мир вращается вокруг него.
Всё это делает чахотку такой завораживающей для той эпохи. При этом казалось, что она поражает хрупкие, чувствительные, тонко чувствующие и печальные натуры, которым не достает прочности и жизненной силы. Рене Теофиль Гиацинт Лаэннек, врач, практиковавший в госпитале Сальпетриер и больнице Некер, изобрел стетоскоп — важнейший диагностический инструмент до открытия рентгеновских лучей. С помощью стетоскопа Лаэннеку удалось изучить и описать целый ряд болезней: бронхит, воспаление легких и прежде всего — чахотку>[146]. Лаэннек считал чахотку неизлечимой и сам умер от нее в 1826 году. Он писал: «Среди причин туберкулеза я не знаю ни одной более определенной, нежели печальные страсти, прежде всего, когда они слишком глубоки и долги»>[147]. Романтическая чахотка читалась болезнью души, страданием, «связанным с экзистенциальной раной»>[148]. Источник болезни — в самом больном, чахотка лишь выражение его личности.
Такое представление пережило романтизм на много десятилетий. Так, Франц Кафка, после того как в сентябре 1917 года у него диагностировали туберкулез, записал в дневнике: «…рана в легких является лишь символом, символом раны, воспалению которой имя Ф.»>[149],[150]. А в 1920 году он объяснял Милене: «Я болен духом, а заболевание легких лишь следствие того, что духовная болезнь вышла из берегов»>[151].
Болезнь страсти и печали, чахотка, казалось, поражала людей творческих. Она стала стигмой чувствительных, гениальных молодых художников, избранных, для которых болезнь связана с познанием и благородством духа. Перси Биши Шелли утешал больного туберкулезом Джона Китса: чахотка — это болезнь, «выбирающая тех, кто умеет писать такие хорошие стихи, какие писал ты»>[152].
Две французские исследовательницы истории общества Клодин Херцлих и Янин Пьерре заявляют: «Весь XIX век продолжались особенные отношения между туберкулезом, искусством и литературой»