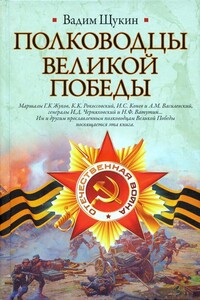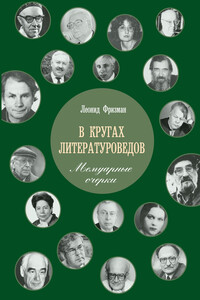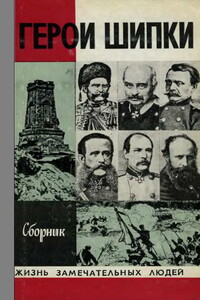Георгий Димитров. Драматический портрет в красках эпохи | страница 9
В 1950-е годы в Ковачевцах был создан мемориальный комплекс. Тщательно отреставрировали тёмную мазанку, где, возможно, качался в колыбельке будущий болгарский вождь, возвели помпезное двухэтажное здание музея, где, впрочем, не демонстрировалось ни одного подлинного предмета, принадлежавшего семье Димитровых.
Сам Георгий Димитров указывал в качестве дня своего рождения 18 июня 1882 года[2], и эта дата стала официальной. «День рождения! В сущности 13 дней позднее из-за перемены календаря», — записывает он в дневнике 18 июня 1934 года, из чего видно, что он не придавал значения этой неточности. Не имеет она значения и для дальнейшего жизнеописания нашего героя.
Важнее обратить внимание на место рождения Димитрова, поскольку время от времени появляются публикации, в которых говорится о его македонском происхождении. Димитров действительно говорил: «происхожу из македонского семейства», «отец мой — македонец» и т. п. Однако при этом он всегда называл себя болгарином и на суде в Лейпциге во всеуслышание заявил, что гордится своей принадлежностью к болгарскому народу. Понятие «македонец» Димитров употреблял не в этническом, а в географическом его значении.
С помощью живших в Софии родственников (сестры Парашкевы и её мужа) переселенцы устроились в хатке на Солунской улице. Неподалёку возвышалась евангелическая церковь — высокое здание строгих форм с башней. Английские и американские миссионеры в XIX веке вели в болгарских землях Османской империи активную проповедь протестантских вероучений, издавали духовную литературу на болгарском языке, открывали школы и учреждали общины новообращённых. В Софии первая евангелическая община возникла в 1864 году стараниями американского миссионера Чарльза Морза, представлявшего конгрегациона-листов; она существует до сих пор.
Очевидно, в столь впечатляющих успехах западных проповедников сыграл существенную роль тот факт, что национальная православная церковь была в то время раздроблена и слаба. По султанскому повелению христианские храмы не могли строиться выше мечетей (поэтому иногда церкви заглублялись в землю), а по установленному православным Константинопольским патриархатом порядку богослужение велось на греческом языке.
Достоверных сведений о том, почему Димитр и Парашкева отказались от веры отцов и причислили себя к протестантам, нет. Было бы упрощением сослаться на соседство их жилища с евангелическим храмом как на основную причину. Сомнительно также, что они, люди едва грамотные, разбирались в тонкостях религиозной догматики. Скорее всего, причина их «обращения» заключалась в том, что те самые благодетели-родственники, уже состоявшие в евангелической общине, уговорили переселенцев последовать их примеру. Строгость нравов и просветительская деятельность