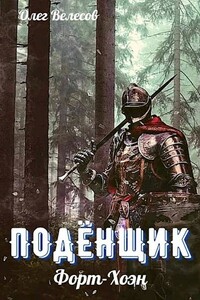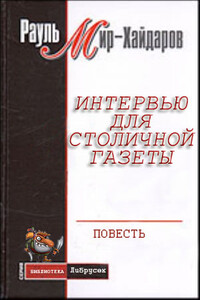Гражданская рапсодия. Сломанные души | страница 5
— Газеты читайте! Вот где правда жизни!
— Начитались уже. Смотрите…
По перрону, раздвигая толпу плечами, шёл патруль. Матросы. Первый — невысокого роста, в офицерской фуражке без кокарды, перепоясанный крест-накрест пулемётными лентами — шнырял глазами по лицам людей. Толкачёв поднял воротник, надвинул шляпу на брови. Матросы прошли мимо. Как же прав он оказался, переодевшись в штатское.
— Выглядывают.
— Говорят, на Дону мятеж, вот они и ходят кругами.
Люди, словно дождавшись заветного знака, заговорили полушёпотом о восстании юнкеров, о быховских сидельцах[2]. Кто-то упомянул Новочеркасск, о том, что атаман Каледин вышвырнул с Донской области все Советы. Вспомнили призыв генерала Алексеева начать борьбу с большевиками. Толстяк в котелке подмигнул заговорщицки и принялся гудеть в ухо, что нынче лучше всего ехать в Екатеринодар или даже в Новороссийск, а оттуда пароходом в Турцию. Почему именно в Турцию, Толкачёв не понимал, но вдруг подумал, что зря он отказался от предложения Василия Парфёнова и не уехал с ним на Дон. Как же стыдно стоять сейчас здесь на этом заплёванном перроне, в этой зудящей толпе, в растерянности, скрываясь от красных патрулей под широкополой шляпой и чувствовать себя спрятавшимся.
Впрочем, ничто ещё не потеряно. Толкачёв выдохнул. Надо ехать в Новочеркасск. Генерал Алексеев собирает армию, и ныне это единственная надежда России. Денег на дорогу хватит, а если нет, то в грудном кармане пиджака лежит орден Святого Владимира и к нему орденский знак на серебряной колодке. Толкачёв кивнул утвердительно собственным мыслям, и подошёл к проводнику уже будучи уверенным, что из Москвы направиться прямо на Дон. Проводник потребовал билет, Толкачёв сунул ему в ладонь несколько смятых купюр, и тот, не пересчитывая, посторонился на мгновенье и снова закрыл собою двери.
Ехать до Москвы пришлось в тамбуре. Мест в вагоне не было, даже в проходе. Казалось, весь Петербург поднялся в одночасье и ударился в бега, подальше от той чумы, которую люди назвали революцией. Габардиновый плащ, взятый по случаю на углу Громова переулка и Большой Гребецкой, не грел. Толкачёв стоял, обхватив плечи руками и уткнувшись подбородком в грудь. Купить или выменять еды, хотя бы кусок чёрствого хлеба, было негде, и только кипяток, который проводник разносил вместо чая, позволял немного согреться и обмануть голод.
Тамбур был переполнен. Люди сидели вдоль стен на чемоданах, на грязном полу, подстелив под себя газету, и это многочасовое сидение вносило в выражения лиц особые перемены. Они казались омертвевшими, словно цветы на морозе. Всего-то насколько дней назад это были лица учителей, инженеров, чиновников, а сегодня, присыпанные страхом и холодом, они походили на личины. Толкачёв поёжился. Интересно, что бы сказала Лара, увидев его в таком обществе? Ушла бы вновь или пожалела? Она очень любит жалеть маленьких и обездоленных…