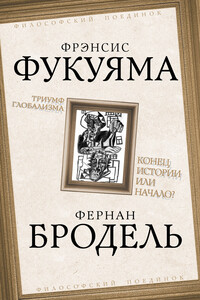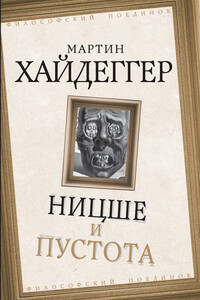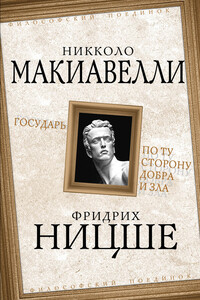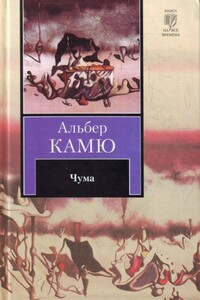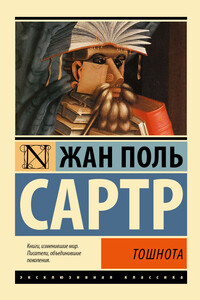Сущности. От сложного к простому и наоборот | страница 54
Конечно, разделение между двумя прерывными элементами является пустотой, то есть ничто, но реализованным ничто, то есть в-себе. Это субстанциализированное ничто, как таковое, представляет собой плотность, никуда не ведущую, оно разрушает непосредственность присутствия, так как стало чем-то в качестве ничто. Присутствие для-себя по отношению к в-себе не может выражаться ни в понятиях непрерывности, ни в понятиях прерывности, оно есть чистое тождество, подвергнутое отрицанию.
Чтобы лучше это понять, используем сравнение: когда две кривые оказываются касательными друг к другу, они представляют тип присутствия без посредников. Но таким образом взор постигает только одну линию по всей длине их касания. Если даже скрыли бы две кривые и было позволено видеть длину AB, где они касаются друг с другом, было бы невозможно их различать. В самом деле, то, что их отделяет, и есть именно ничто; нет ни непрерывности, ни прерывности, а лишь чистое тождество. Раскрыв внезапно две фигуры, мы постигаем их еще раз существующими по всей их длине; и это происходит не от быстрого реального отделения, которое вдруг было бы произведено между ними, а потому, что два движения, которыми мы проводим две кривые, чтобы они воспринимались, включают каждое отрицание как конституирующее действие.
Таким образом, то, что отделяет две кривые в самом месте их касания, есть ничто, даже не расстояние; это чистая отрицательность как противоположность конституирующему синтезу.
Этот образ поможет лучше понять отношение непосредственности, которое первоначально объединяет познающее с познаваемым. В самом деле, обычно оказывается, что отрицание действует на «что-то», что заранее существует до отрицания и конституирует его материю; если я говорю, например, что чернильница не есть стол, стол и чернильница – это объекты уже конституированные, бытие которых в-себе будет опорой для отрицательного суждения. Но в случае отношения «познающее-познаваемое» нет ничего на стороне познающего, которое могло бы создать опору для отрицания; «нет» никакого различия, никакого принципа различения, чтобы отделить в-себе познающее от познаваемого. Но в полном неразличении бытия нет ничего, кроме отрицания, которое даже не является тем, что имеют в бытии, которое даже не полагается как отрицание.
Таким образом, наконец, познание и само познающее не являются ничем, кроме факта, «что есть» бытие, что бытие-в-себе дается и возвышается рельефно на фоне этого ничто. В этом смысле мы можем назвать познание чистым одиночеством познаваемого. Значит, достаточно сказать, что первоначальный феномен познания ничего не добавляет к бытию и ничего не создает. Посредством него бытие не обогащается, так как познание есть чистая отрицательность. Оно производит только то, чтобы было бытие.